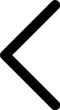Житомир в годы Гражданской войны пережил три погрома с большим количеством жертв.
Первый из них — погром 8–13 января 1919 года, когда город был захвачен Особым ударным корпусом войск УНР под командованием атамана Александра Палиенко. Погром начался с разгрома еврейских магазинов. В центре города шла непрерывная стрельба, взрывались бомбы. Наряду с солдатами в грабеже участвовали жители городских предместий, учащиеся и чиновники. Первые два дня погром носил характер разбоя. Были случаи изнасилований, производившихся в квартирах ограбленных, часто на глазах родителей, мужа, братьев и сестёр насилуемых. С 10 января налёты на квартиры стали сопровождаться убийствами: группы солдат по 5–7 человек врывались в жилища, собирали жильцов, ставили их к стене, не исключая детей, угрожали расстрелом, отбирали все ценности вплоть до обручальных колец и одежды, а иногда расстреливали людей, отдававших всё без сопротивления. За время погрома было убито 103 еврея. Среди жертв — старики, женщины и дети. Погром прекратился лишь тогда, когда грабить было уже почти нечего.
Второй погром произошёл 22–26 марта 1919 года, когда в город вошли петлюровские войска. Многие евреи покинули Житомир заранее. Первым убитым по дороге в город был 70-летний старик-еврей, шедший в синагогу с талесом в руке. По показанию очевидцев, его приставили к дереву и выстрелили в него, но не сразу убили. У раненого старика хватило ещё силы пройти несколько сажен по шоссе, шатаясь от потери крови, — затем он упал и скончался.
Погром продолжался пять дней, наибольшее число жертв пришлось на первые трое суток.
Далее — цитаты из свидетельств:
«В доме Либермана прятались 62 еврея. Казаки вытащили их наружу и убили всех разрывными пулями. Разбитые черепа…»
«Отец Ульриха был убит. Его мать казаки насиловали, пока она не скончалась».
«В доме Зильберштейна прятались три семьи. Казаки там устроили стрельбу по мишеням: они построили свои жертвы возле стены и целились в их сердца…»
«Дочь Могоровского рыдала от страха. Один из казаков проткнул ей сердце австрийским штыком».
«В доме Ландмана на носилки положили раненого Молталку. Солдаты закричали: “Кто это? Жид?”, и добили его».
«Хана Полякова две ночи носила еду своим братьям, которые прятались на кладбище. В третью ночь она обнаружила их убитыми и изуродованными до такой степени, что их невозможно было опознать».
«Лифшиц Костинская… вместе с двадцатью двумя евреями вернулась в Житомир. По дороге их встретила казацкая рота. Казаки построили евреев попарно и всех застрелили. Лифшиц спаслась благодаря тому, что потеряла сознание».
«Из больницы казаки вывели семерых евреев и отвели их к реке Тетерев. Там их всех расстреляли».
«На волнах реки качаются трупы утопленных евреев».
«На кладбище, в мертвецкой, рядами сложены растерзанные трупы… запах держался в течение восьми дней».
«Зайц… увидел своего зятя и двоих шуринов. Его зять пытался перевязать свои внутренности… Свинья рылась в его животе и ела его внутренности».
«На кладбище лежат молодые женщины с выпотрошенными животами, с отрезанными грудями… Возле трупов родителей находятся трупы их малолетних детей».
«На Киевской улице Слободский видел младенца, сосавшего грудь своей мёртвой матери».
В погроме было убито 400 евреев. Более 1000 были ранены, изуродованы и изнасилованы.
9–11 июня 1920 года в Житомир вошли части польской армии. Обвиняя евреев в обстреле, они начали массовый грабёж и убийства. Один из очевидцев сообщал, что ему лично пришлось видеть на еврейском кладбище 44 трупа убитых поляками евреев, многие из которых были страшно изуродованы: отрублены ноги, пальцы, размозжены черепа, выколоты глаза.
В списке жертв указаны: «Вайнштейн Аврум 50 лет — выколоты глаза и отрезаны суставы пальцев; Котвер Иосиф 41 г. — заживо погребен; Дерос Ицко 35 лет — заживо погребен; Вейцель Борух 55 лет — отрезан нос и выколот глаз; Народицкий Еина 50 лет — выколоты глаза; Фаинзильбер А. 60 лет, Зингер А. 40 лет — сожжен; Горенштейн Герш 76 лет — отрезаны уши, нос и отрублены пальцы; семилетний мальчик Борух — выколоты глаза».
Свидетель отмечал: «Среди убитых не только не известны коммунисты, но большинство их составляют торговцы и старики 65–70 лет». По сообщениям житомирских «Известий», арестованных евреев, в том числе стариков, выводили на Сенную площадь и в городские скотобойни, где их пытали и убивали. Убийства происходили с ведома польского командования, офицеры руководили расправами. Жертвами июньского погрома стали 56 человек.
По сохранившимся именным спискам, в погромах 1919–1920 годов был убит 561 еврей. Более 1000 были ранены, изувечены и изнасилованы. Погромы сопровождались массовым грабежом и разрушением всего хозяйства.
Из книги Давида Элиезера Розенталя «מגלת הטבח» («Свиток резни»). Публикуется с разрешения переводчика на русский язык Михаэля Шафира
I
Первый погром
Ночью 7 января 1919 г. в Житомир вошла республиканская военная часть Батальон смерти под командованием Паленко. Он немедленно сообщил об этом в телефонограмме, направленной в городскую управу. Когда на станцию прибыл заместитель городского головы с членами управы, Паленко их обнял и расцеловал (заместитель городского головы был кадетом). Паленко также сообщил ему цель своего прибытия: «Большевиков следует вырвать с корнем». Когда заместитель городского головы попросил его сохранять в городе порядок, Паленко ответил: «Меня удивляет, что ты стараешься ради жидов. Я тебе советую отстранить их всех от власти в городе». На замечание заместителя городского головы о том, что у него для этого нет полномочий, Паленко ответил, что он этим займется и отдаст относительно этого специальный приказ.
Утром 8 января местные солдаты группами рассеялись по улицам, и начали грабить еврейские дома. Но сразу же был выслан грузовик, груженный пулеметами, на котором находились солдаты Батальона смерти. Солдаты направили дула пулеметов на беснующуюся толпу и сообщили, что заниматься грабежом они никому не позволят. Угроза подействовала. Местные солдаты ушли с улиц. Страх евреев прошел. Они надеялись, что батальон их защитит, и они смогут жить спокойно, но их надежды были тщетными. Целью Батальона смерти было лишь избавиться от конкурентов… После того как они прогнали солдат и чернь, они сами принялись за «работу». Они разбивали ружейными прикладами и гранатами двери и ставни лавок, и опустошали их от товаров. Свои действия они производили спокойно и обдуманно, они грузили товары на телеги и на машины, и отправляли их на станцию, где находился штаб батальона. Солдаты не различали между лавками богачей и бедняков. Они опустошали все лавки без разбора. Товары и ценные вещи они забирали себе, а все остальное уничтожали. И все же солдатам батальона не удалось остаться единственными монополистами. Очень быстро из соседних сел собралось множество вооруженных солдат, которые тоже приняли участие в грабеже. Но солдаты батальона не ограничились лишь грабежом. Каждого попадавшего к ним в руки еврея они нещадно избивали. Много человек было жестоко убито. Евреи бросили свои дома на произвол судьбы и попрятались в щелях и ямах, в подвалах и в погребах. Когда солдаты батальона закончили грабить лавки, они начали грабить дома. Сначала они грабили соседние со станцией улицы, а затем остальные части города. Грабеж, издевательства и убийства продолжались пять дней, от 7 до 11 января 1919г.
Паленко назначил комендантом города Димитровко, и они вдвоем устроили охоту на состоятельных евреев, которых хватали, чтобы получить большие суммы денег в качестве выкупа за их жизни.
Число убитых, которое было записано сразу же после погрома, составило 80 человек. Раненых, многие из которых были ранены тяжело, было очень много. В одном из домов было ранено 25 человек. Было также очень много изнасилованных. Убитыми и ранеными в большинстве случаев были пожилые люди. Ущерб достиг многих миллионов.
(Выдержки из доклада Элиэсберга, члена делегации из Житомира)
II
Второй погром
Красная армия ушла из Житомира 21 марта 1919 г., а на следующий день, 22 марта, во Врангелевку (городское предместье) вошли петлюровские части. Сразу же после ухода Красной армии деятели общины решили отправить делегацию для встречи армии Директории, и ходатайствовать перед ними о сохранении порядка. Им было известно, что в городе началась сильная антиеврейская агитация, и члены Черной сотни делали все, что в их силах, для того, чтобы подготовить почву для погрома и убийств. Они распустили ложный слух, что большевики, прежде чем уйти из города, убили 17 сотен христиан. В действительности, в период от 12 до 21 марта был убит лишь 21 христианин, и среди них были те, кто погибли в ходе партизанской войны. Понятно, что этот провокационный слух был направлен только против евреев. Так, чиновники, оставшиеся со времен царизма, клеветали, что на всех должностях находятся лишь евреи, в то время как подавляющее большинство еврейских жителей, включавшее мещан, торговцев, лавочников и т.д., было самыми большими противниками большевизма. И когда большевицкая власть, для того, чтобы гарантировать выплату наложенной ей на город контрибуции, взяла в Житомире заложников, в их числе также было много евреев.
Все эти ложные слухи достигли петлюровских ушей, и никто не сомневался, что в городе вспыхнет погром. Много евреев, в основном молодых, покинули город, несмотря на то, что не имели никакого отношения к большевизму. Они бежали лишь из-за страха перед погромом. Все беглецы были заклеймены как большевики, и вышел указ, что в случае их возвращения в город они будут расстреляны. Лишь одной группе молодежи, которая вернулась из Бердичева, удалось избежать смерти благодаря ходатайству главы самоуправления. Вмешались также некоторые из деятелей общины.
Среди членов делегации, посланной 22 марта для встречи петлюровцев, были: городской глава Пивецкий, его заместитель Яницкий, член профсоюза Дзейбалтовский и еврей, член общинного комитета. Все они ехали в одной карете. Один встреченный ими в дороге офицер посоветовал им вернуться, а также поведал, что жизнь еврейского делегата находится в большой опасности. Делегация решила, что ее член еврей должен вернуться домой. Еврей вернулся в город переулками и кружными путями. Уже по пути он видел первые жертвы, которые были убиты петлюровцами. Так, при переходе из предместья Врангелевки в город он увидел тело старика примерно семидесяти лет, который был застрелен, когда шел в семинарию с талитом подмышкой.
Первый вопрос, который был задан делегации, касался 1,700 христиан, которые были убиты жидами. Делегация ответила, что это откровенная ложь, и поклялась, что число убитых не превышало двух десятков.
Делегация получила ответ, который состоял в том, что интеллигентных людей можно убедить, и они поверят их словам. Но ненависть, укоренившуюся в сердцах солдат, извлечь невозможно, и даже штаб бессилен что-либо сделать.
Погром начался 22 марта и продолжался пять дней. Только в Житомире (не включая соседние села) было убито 317 человек. Большинство убитых составляли старики, женщины и дети. Молодежь пострадала незначительно, так как молодые бежали вместе с Красной армией, либо спрятались. Некоторым удавалось выкупить свою жизнь за деньги. Но были случаи, когда боевики брали деньги, а затем убивали своих жертв.
Убийства производились со страшной жестокостью. Если бы христиане не прятали евреев, количество убитых было бы больше в несколько раз. 24 марта большевики произвели новую атаку на Житомир, и петлюровцы были вынуждены прекратить погром, так как были посланы на фронт.
23 марта, когда погром достиг своего пика, Житомир посетил Петлюра. Когда ему сообщили о том, что происходит в городе, он сказал, что уже выпустил приказ о прекращении погрома. Но в действительности до 25 марта ничего не было сделано. Лишь 25 марта земская жандармерия во главе с Бонуцким стала препятствовать нападениям, и погром сразу же прекратился.
Если мы хотим знать, какую роль играло армейское командование, нам достаточно вспомнить ответ полковника Петрова, который командовал гарнизоном. Когда ему сообщили, что к нему направляется официальная комиссия по расследованию погрома, он сказал:
— Ох, эта жидовская комиссия! Не о чем и говорить! – и отказался с ней встретиться.
Лишь после того как делегация сообщила ему, что ее члены были назначены Директорией, он согласился с ней сотрудничать, и сказал:
— Наш лозунг: «Бейте жидов, бейте большевиков!».
Было также очень много раненых. Подсчитать их количество не представлялось никакой возможности, так как раненые не могли выйти из своих домов, чтобы получить медицинскую помощь. Лишь на четвертый день погрома по инициативе члена городской думы Думановского была создана летучая санитарная бригада для перевязки раненых. Но находившиеся в городе солдаты не давали ей прохода и мешали выполнять работу. Несколько сестер милосердия несли в еврейскую больницу тяжелораненого старика. По дороге их остановили солдаты, которые хотели этого старика убить, и лишь с большим трудом и с помощью уговоров сестрам удалось спасти этого раненого от смерти. Солдаты согласились их отпустить лишь при условии, что сестры отнесут раненого обратно домой.
В день, когда хоронили убитых, кладбище представляло собой печальную и жуткую картину. Дом очищения был забит телами, большинство убитых составляли старики, женщины и дети. Вокруг дома стояли сотни сирот, женщин, потерявших мужей, и они разрывали небеса своим плачем и рыданиями.
24 марта, когда Житомир атаковала Красная армия, в городе распространились слухи о том, что большевики, захватив город, уничтожат всех находящихся в нем христиан. Поэтому многие христиане выразили желание участвовать в бою с Красной армией. Среди тех, кто присоединился к петлюровцам, было много чиновников, оставшихся со времен царизма, гимназистов, и почти все мужчины из предместий Врангелевка и Малеванка, место проживания низших слоев населения. Они присоединились к петлюровцам не из-за того, что очень их любили, а из-за своей ненависти к евреям. При этом было много христиан, которые защищали евреев, и прятали их в своих домах.
25 марта, когда погром еще не закончился и случаи нападений на евреев еще происходили, комендант крепости издал указ, в котором содержался следующий параграф:
«После того как в городе было восстановлено спокойствие, я призываю жителей, и в особенности евреев, не сидеть, спрятавшись, в своих домах, а выходить на улицы».
Член думы Прокодин попросил коменданта Важного стереть касавшийся евреев параграф, так как невозможно заставить их подвергнуть свои жизни опасности и выйти на улицы после погрома и убийств, которые только что произошли и еще не закончились. Но Важный категорически отказался стирать этот параграф.
Большинство убитых были бедняками. Состоятельным людям в большинстве случаев удавалось выкупать свои жизни за деньги. Старик 74 лет был убит из-за того, что у него в кармане было всего лишь 18 рублей, в то время как от него требовали 1,000 рублей выкупа.
В городе были отпечатаны и распространены листовки «Бейте евреев!» и подобные.
(По сведениям, которые собрал Лифшиц, уполномоченный центрального городского комитета Украины)
III
Волна погромов, в последнее время прокатившаяся по всей Украине, достигла Житомира на своем пике. Если такие города как Овруч, Коростень, Дубровица и Кутузово сильно пострадали, то Житомир весь был разрушен. Многолюдный город, насчитывавший 90,000 жителей, весь был разграблен до основания, от первоклассных складов до крошечных лавок. Центр города и предместья, особняки богачей и лачуги бедняков, все они без исключения стали добычей грабителей. Боевики буйствовали в городе на протяжении шести дней. Они грабили, разрушали, крушили и раздирали на части, как хищные звери.
Эти страшные разрушения, для которых нужны были недюжинные силы, были произведены несколькими десятками боевиков. Я подчеркиваю, «несколькими десятками». Несмотря на то, что в разрушении и грабеже принимали участие целые полчища хулиганов разных мастей. Мужчины и женщины, простые рабочие и интеллигенты. Но все же все эти полчища были лишь арьергардом, который обдирал предместья, оставленные ему боевиками. Тех, кто разрушали склады, поджигали дома, убивали, мучили и насиловали, было лишь несколько десятков. В любом случае, не больше сотни.
Разрушенный город являл собой печальную и разрывающую сердце картину. Но гораздо страшнее и отвратительней было видеть в числе хулиганов людей, одетых в церковную одежду, чиновников и учителей городских школ, которые, отбросив всякий стыд, принимали участие в грабеже вместе с чернью.
В то время, когда боевики пальбой пугали толпу, воспитатели одного из приютов, который существовал и за еврейский счет, послали своих воспитанников наружу, чтобы и они «выполнили заповедь» погрома. Эти малолетки исполнили свою миссию как полагается: они грабили и приносили награбленное своим воспитателями.
Погром и резня в Житомире начались не вдруг. Все было спланировано и подготовлено. Погром в Бердичеве начался 23 марта (по старому исчислению), продолжался всего лишь несколько часов, и в тот же день о нем сообщили в Киев, который не предпринял никаких действий. Когда спустя три дня солдаты ворвались в Житомир и невозбранно буйствовали в нем шесть дней, центральная власть не пошевелила и мизинцем. На ходатайства о прекращении погрома ответ был: «Мы беспомощны». И когда городское самоуправление попыталось создать отряды обороны, власть ей угрожала, что все члены городского управления немедленно будут арестованы и заключены в тюрьму. Примерно через десять дней после погрома городскому самоуправлению удалось получить несколько ружей для охранников, по разрешению, выданному комендантом крепости. Но оказалось, что это разрешение было лишь комедией и издевательством. Оружием разрешено было пользоваться лишь днем, и каждый вечер его следовало сдавать обратно. 11 января 1919 г. комендант крепости пообещал отдать приказ не отбирать ночью оружие у охранников, а на следующий день отдал приказ, что домовые комитеты должны предъявить все имеющееся у них в наличии оружие в течение считанных часов. Понятно, что в этих условиях сорока вооруженным боевикам легко было ограбить всю улицу Вильский, на которой проживает около 10,000 человек, не пропустив ни одного дома, и вчерашние миллионеры сегодня протягивают руку в надежде получить кусок хлеба. Городская управа запросила у Киева помощи в размере 10 миллионов рублей, но правительство выделило лишь два миллиона, да и эта сумма не была получена. Когда делегация вернулась из Киева, житомирское казначейство еще не получило об этом распоряжения. А когда распоряжение прибыло, в казначействе не оказалось денег.
(Бонгард)
Первый погром произошел в Житомире 7 января 1919 г., второй петлюровцы учинили 19 марта. Первому погрому Петлюра не препятствовал, а когда начался второй погром, он был в Житомире, но не пошевелил и мизинцем, чтобы его прекратить. Так единогласно свидетельствуют те, кто был членами думы, Яаков Коломиец и Пейсахович, а также городской глава Пивоцкий и член делегации Эвенчук.
В день начала мартовского погрома Петлюра находился в окрестностях города, во Врангелевских казармах, на расстоянии десяти минут от Житомира. Там он также принял депутацию жителей города, русских, украинцев и поляков, Пивоцкого, Яницкого, Дзевалковского (еврейский депутат Эвенчук задержался в дороге, так как ему стало известно, что в штабе покушаются на его жизнь). На просьбу депутатов прекратить погром Петлюра ответил: «Нет». А когда депутаты вернулись назад, то уже увидели много трупов, валявшихся на улицах города. На площади были собраны груды убитых.
Когда городской глава Пивоцкий, стоя перед такой грудой, закричал солдатам: «Почему вы их убиваете?», ему командир ответил: «Мы получили приказ уничтожать евреев в течение трех дней».
И казаки врывались в жилища, проникали в погреба, тащили попавшихся им в руки евреев и безжалостно их убивали.
В доме Либермана прятались 62 еврея. Казаки вытащили их наружу и убили всех разрывными пулями.
Разбитые черепа…
Отец Ульриха был убит. Его мать казаки насиловали, пока она не скончалась. В доме Зильберштейна прятались три семьи. Казаки там устроили стрельбу по мишеням: они построили свои жертвы возле стены и целились в их сердца…
Дочь Могоровского рыдала от страха. Один из казаков проткнул ей сердце австрийским штыком.
В доме Ландмана на носилки положили раненого Молталку. Солдаты закричали: «Кто это? Жид?», и добили его.
В семье (неразборчиво)льберга убили отца. Пуля дум-дум раздробила ему лицо…
Хана Полякова две ночи носила еду своим братьям, которые прятались на кладбище. В третью ночь она обнаружила их убитыми и изуродованными до такой степени, что их невозможно было опознать – их головы превратились в кровавые сгустки. Лифшиц Костинская пряталась в холодном бердичевском молельном доме. Через несколько дней она вместе со своим младшим братом и еще двадцатью двумя евреями вернулась в Житомир. По дороге их встретила казацкая рота. Казаки построили евреев попарно и всех застрелили. Лифшиц спаслась благодаря тому, что потеряла сознание.
Из больницы казаки вывели семерых евреев и отвели их к реке Тетерев. Там их всех расстреляли.
На волнах реки качаются трупы утопленных евреев.
На кладбище, в мертвецкой, рядами сложены растерзанные трупы. Родственники убитых ходят среди них, чтобы опознать своих близких. С похоронами следует подождать. Таков приказ. А пока что запах мертвечины распространяется по городу. Плохой запах держался в течение восьми дней.
Зайц пришел на детскую площадку, чтобы найти своего зятя. Там стояла пушка и была собрана груда трупов. Среди них он обнаружил своего зятя и двоих своих шуринов. Его зять хотел жить. Шейным платком он пытался перевязать свои внутренности, которые вывалились наружу. Зайц обнаружил пропитанный кровью платок в ране… Когда он проходил по улице Чудновской, он увидел убитого, который был накрыт талитом. Свинья рылась в его животе и ела его внутренности…
На кладбище лежат молодые женщины с выпотрошенными животами, с отрезанными грудями, груды трупов, сложенных один на другой. Ряды голов, тел… Возле трупов родителей находятся трупы их малолетних детей. На Киевской улице Слободский видел младенца, сосавшего грудь своей мертвой матери…
Доктор Фабрикантов, армянин, проработавший 23 года в армии, теперь назначен на должность главврача больницы военнопленных. Он не любит евреев, но при этом принял в больницу раненых при погроме и спрятал их. Когда об этом стало известно петлюровцам, они решили убить раненых и находившихся в больнице пациентов. В течение трех дней и трех ночей доктор Фабрикантов должен был охранять и защищать евреев.
Всего пострадало в Житомире:
103 убитых во время январского погрома.
400 убитых во время мартовского погрома.
Более 1000 раненых, изуродованных и изнасилованных.
Писатель Б. Лекаш
Из книги “Grand Israel meurt”
С текстом книги «Свиток резни» Вы можете ознакомиться на личном сайте Михаэля Шафира
Из книги: Островский З. С. Еврейские погромы. 1918–1921 гг. — М.: Школа и книга, 1926. — С. 10.
<…>
Настоящие кровавые погромы на Украине начались со второго периода отступления «Директории». Погромы происходили на глазах самой «Директории» и ее высшего командования. Так, например: Житомирский погром, устроенный регулярными воинскими частями и повлекший за собой 317 жертв в одном только городе, происходил на глазах самого «батьки» Петлюры, который посетил Житомир в разгаре резни, но ничего не предпринимал для ее прекращения. Полковник Захарчук, вступивший первым в Житомир, открыто заявил посетившей его делегации от Городской Думы, что «жидам не будет пощады», и эта угроза была им блестяще выполнена. Несколько позднее один из важнейших погромщиков, полковник Петров, цинично заявил чрезвычайной следственной комиссии (петлюровской), что армия шла на Житомир под лозунгом: «Бей жидов, бей коммунистов»…
<…>
Из книги: Гусев-Оренбургский С. И. Багровая книга. Погромы 1919—1920 гг. на Украине. — Нью-Йорк: Ладога, 1983. — С. 17.
<…>
Типичная картина погрома
Вариации
<…> Иногда, как в Житомирѣ 22-26-го марта <…> убиваются только старики, женщины и дѣти (317 … человѣка); то есть, всѣ кто не был в состоянiи спастись бѣгством.
<…>
Из книги: Бабель И. Э. Конармейский дневник 1920 года. — М.: Правда, 1990.
Житомир. 3.6.20
<…>
Житомирский погром, устроенный поляками, потом, конечно, казаками.
После появления наших передовых частей поляки вошли в город на 3 дня, еврейский погром, резали бороды, это обычно, собрали на рынке 45 евреев, отвели в помещение скотобойни, истязания, резали языки, вопли на всю площадь. Подожгли 6 домов, дом Конюховского на Кафедральной — осматриваю, кто спасал — из пулеметов, дворника, на руки которому мать сбросила из горящего окна младенца — прикололи, ксендз приставил к задней стене лестницу, таким способом спасались.
<…>
№ 10
Из заключения следственной комиссии по делу о погроме воинскими частями УНР в г. Житомире Волынской губ. в январе 1919 г.
Не ранее 28 июля 1919 г.
Следственная комиссия о погроме начала свою деятельность еще при Директории и действовала на основании особого наказа, утвержденного Директорией 3 марта 1919 г., причем в состав комиссии согласно наказу вошли: представители Житомирской городской думы — член окружного суда В.В. Полынев и присяжный поверенный [С.С.] Горелин; товарищ городского головы С.В. Иваницкий; прокурор окружного суда А.П. Сакович; член окружного суда Г.В. Рублевский; представитель губернского земства, мировой судья П.Т. Редько; представитель уездного земства Л.П. Буйницкий; представитель комендатуры Д. Марчевский; следователь по важнейшим делам П.Б. Соловьев; уполномоченный Центрального комитета помощи потерпевшим от погромов Я.Б. Лившиц; представители житомирской еврейской общины — доктор медицины Я.О. Розенблат и учитель гимназии, кандидат на судебные должности И.Я. Шпильберг, представитель Совета профессиональных союзов, заведующий биржей труда Б.Б. Кимельблат, представитель Торгово-промышленного союза А.О. Оксман, товарищи прокурора М.А. Кац и Н.Ф. Карасев и присяжные поверенные И.Н. Ратнер и П.В. Певзнер. За время с […] марта по 1 августа из состава комиссии выбыли: С.В. Иваницкий, А. Сакович, А.О. Оксман, Д. Марчевский и А.Н. Буйницкий, и на их место вступили: присяжный поверенный, гласный Городской думы М.Д. Скоковский, присяжный поверенный [..]оницкий, член правления Союза металлистов С.С. Бегун, учитель гимназии, помощник присяжного поверенного И.И. Жидловский и представитель Торгово-промышленного союза Г.К. Лихтерман.
Следственная комиссия по делу о первом и втором погромах в городе Житомире, рассмотрев в заседаниях 16, 24, 26 и 28 июля 1919 г. собранный по настоящему делу материал, пришла к следующему заключению:
I.
Последние месяцы 1918 г. политическая и общественная жизнь города Житомира протекала в особенных, исключительных условиях. В то время как до этого Житомир переживал войну, революцию и последующие политические перевороты без особых потрясений, с ноября месяца восстание Петлюры и Винниченко против гетманской власти создало в городе совершенно иную — выбившую городскую жизнь из нормальной колеи — обстановку. Призыв Петлюры к свержению гетмана встретил большое сочувствие, подъем и активную поддержку со стороны окружающего город сельского населения. Самый больной и насущный для последнего — земельный вопрос — и после универсалов Центральной Рады о передаче всей земли трудящемуся народу?” не получил к осени желательного для селян разрешения. Гетманское правительство, хотя и обещало в ближайшее время разрешить вопрос с землей, но на самом деле до конца своего существования не только не дало селянам реальных доказательств приведения в исполнение этого обещания, а наоборот, восстановив частную собственность на землю и признав за помещиками право на получение убытков, в результате вызвало в деревне многочисленные недоразумения между помещиками и селянами. Требования некоторых помещиков встретили противодействие со стороны селян, в деревне создалось повышенное настроение, перешедщее в озлобление после репрессий так называемых «карательных» отрядов гетманской варты, действовавших при поддержке оккупировавших Украину немецких войск.
В половине декабря войска Директории заняли без особого сопротивления Житомир, и последний к концу декабря оказался наполненным массой вооруженных повстанцев-крестьян в числе семи — семи с половиной тыс., незадолго до того мобилизованных из близлежащих местностей, находившихся в процессе стихийного подъема, только что окончивщих свержение нежелательной власти, слабо дисциплинированных, никому не доверяющих, легко возбуждавшихся и поддающихся самым противоположным влияниям.
Несмотря на образование полков, получивших название в зависимости от места их образования — «Житомирский», «Левковский», «Черняховский», все эти вооруженные массы не имели надлежащей войсковой организации: одни эти вооруженные массы — полки, [такие] как Житомирский — управлялись выборным комитетом, другие имели командиров. Ни выборные комитеты, ни командный состав полков не пользовались среди солдат достаточным авторитетом и доверием. Тем более не было реальной власти и авторитетности у гражданской администрации. В результате город фактически оказался во власти недисциплинированной и неорганизованной массы вооруженных людей, которые сразу поставили жизнь Житомира, испытавшего к тому же серьезные продовольственные затруднения, в крайне тяжелые условия. Солдатами стал производиться в городе под видом реквизиции ряд самочинных обысков, грабежей и арестов. Особенную активность проявил в этом отношении полк, квартировавший на Врангелевке.
Все указанные действия направлялись сначала против бывших помещиков и лиц, имевших к ним отношение, причем задержанных уводили обыкновенно на Врангелевку и там подвергали избиениям и самосудам. Затем началось систематическое разоружение городской милиции и ее конного резерва, который был арестован в полном составе под предлогом, что чины его участвовали в карательных экспедициях, тогда как в действительности большинство из них никакого отношения к карательным отрядам не имело. Неоднократные обращения городского самоуправления к высшим властям с просьбами о принятии мер к прекращению анархических проявлений войсковых масс не приводили решительно ни к каким результатам ввиду указанного бессилия властей. Городскому самоуправлению пришлось самому посылать делегацию на Врангелевку для переговоров с солдатами Житомирского полка, и делегации в конце концов удалось убедить солдат допустить специально созданную следственную комиссию к рассмотрению вопроса об основательности указанных арестов, благодар чему многих из задержанных удалось спасти от грозивших им самосудов.
Попытки высшего командования разгрузить Житомир путем направления войсковых частей для исполнения боевых задач успеха не имели, и приказы об этом оставались без исполнения. Не имел также результатов и общий приказ о демобилизации известных возрастов. Только с приближением праздников Рождества часть солдат стала расходиться по домам, большинство же продолжало оставаться в городе.
Что касается политического настроения сосредоточенных в Житомире войсковых масс, то, будучи единодушны в своем стремлении свергнуть гетманское правительство и удовлетворить главный для них насущный вопрос — получить землю, они во всем остальном представляли собой далеко не однородный элемент. С одной стороны солдаты легко проникались большевистскими лозунгами и среди войсковых частей были даже такие, которые, в противовес официальному наименованию войск Директории «республиканскими», называли себя «революционными». С другой стороны, некоторые войсковые части легко поддавались антисемитской агитации, как под давлением командного состава, так и под влиянием провокационных элементов местного населения, стремившегося натравить темную массу солдат и некультурных масс городского мещанства, не принимавшего в своем большинстве никакого участия в политической жизни страны, на евреев, чтобы, с одной стороны, натравить таким образом вышедшую из берегов стихию [и направить ее] по линии наименьшего сопротивления, а с другой стороны — добиться торжества своих черносотенных идей (показания бывшего городского головы А.Ф. Пивецкого, члена городской управы А.Я. Шура, гласного городской думы М.Д. Скоковского, председателя губернской земской управы С.М. Подгорского, члена ликвидационной комиссии губернского земства А.М. Левчановского, осадного коменданта К.Г. Возного и др.; т. 1, л. 15—17, 33—35, 54—56, 78—95, 100—107, 113—133 и 138—141).
II.
Агитация против евреев облегчилась тем, что антисемитское настроение существовало в Житомире давно и что Волынь издавна являлась одной из наиболее правых губерний, в которой очень заметно давало себя чувствовать черносотенство, что ярко проявлялось, между прочим, при выборах в Государственную думу, куда Волынь посылала исключительно правых депутатов. Главными причинами, питавшими и усилившими процветание антисемитизма и черносотенства на Волыни, и в частности в Житомире, надлежит признать: 1) разноплеменность его населения при наличности у него различных экономических интересов; 2) окраинную и так называемую «инородческую» политику правительства до революции 1917 г., которое вело определенную борьбу с украинскими, польскими и еврейскими элементами; 3) вовлечение в политическую борьбу духовенства, которое в лице высших своих представителей и деятелей Почаевской лавры вело в крае ярко-правую антисемитскую, антипольскую и антиукраинскую агитацию, не останавливаясь перед вмешательством в выборы в представительные учреждения и участием в таких политических организациях, как Союз русского народа; 4) специфический подбор в целях той же окраинной политики представителей местной администрации, на которую возлагались определенные политические задачи и котораz была почти поголовно заражена антисемитизмом; 5) крайне низкий культурный уровень волынского крестьянства, объясняющийся, между прочим, отсутствием на Волыни в течение многих лет земств; 6} сосредоточение на окраинах города некультурного мещанства; 7) почти полное отсутствие фабричного пролетариата; и, наконец, 8) почти полное отсутствие в Житомире интеллигенции в подлинном смысле этого слова (показания товарища гор[одского] головы И.П. Вороницына, С.М. Подгорского, доктора Розенблата и А.М. Левчановского: т. 1., л. 108, 68—73, 78—85 и 100—107).
Война 1914—1917 гг. и последующая за ней Гражданская война создали, помимо этих причин, ряд других, имевших своим последствием еще большее усиление национального антагонизма и антисемитизма, тем более что антисемитические элементы использовали войну и вызванные ею явления для новой юдофобской агитации. Дореволюционное царское правительство терпит неудачи на фронте и стремясь возложить на кого-нибудь ответственность за эти неудачи на фронте из опасения взрыва народного негодования, всеми силами старалось доказать, что причину неудач нужно искать в поведении евреев. Путем раскидки циркуляров и анкетных листов, составленных в тенденциозном духе, и путем устной пропаганды некоторых представителей командного состава армии, оно систематически прививало армии, в том числе частям, действовавшим на волынско-галицийском фронте, убеждение, что евреи, привлекавшиеся к несению тягот военной службы наряду со всеми другими гражданами, представляют собой элемент неблагонадежный, чуть ли не изменнический, что их отовсюду следует гнать. Эта систематическая пропаганда имела своим непосредственным результатом то, что некоторые пограничные города Галиции, в которых значительный процент составляло еврейское население, подверглись погромам при явном попустительстве командного состава, а это в свою очередь внушало малосознательным элементам армии, в особенности уроженцам отсталой в культурном отношении Волынской губ.мысль, что евреев можно и даже должно громить (показания Я.О. Розенблата и А.М. Левчановского; т. 1, л. 68—73, 100—107).
Февральская революция положила конец этой антисемитской политике царского правительства. Но вскоре для евреев опять наступили тяжелые дни. Ожесточенная политическая борьба, вызванная революцией, превратилась на Украине в борьбу на национальной подкладке — в борьбу с «москалями», т.е. великороссами, поляками и евреями. Непосредственным результатом этого явился взрыв шовинизма и крайнее обострение национальных отношений. Разжигание страстей на национальной почве отразилось и на отношениях к евреям. Официально и национальная Рада, и гетманское правительство, и Директория заявили о своей готовности обеспечить права национальных меньшинств, а национальная Рада и Директория издали даже закон о национально-персональной автономии, но все это осталось лишь мертвой буквой. Первыми были взяты под подозрение поляки и весь великорусский элемент края, т.е., по терминологии украинских шовинистов, все «москали», с которыми велась ожесточенная борьба. Затем под подозрение взяты были и евреи, которых новая украинская власть в момент своего возникновения объявила было ближайшими союзниками украинцев в их борьбе за независимость, но с отменой национально-персональной автономии закончилось это, — если не в центре Украины, Киеве, то на местах, — воскрешением в некотором отношении политики царского правительства. Еврейство, состоящее, как и все национальности, из самых разнообразных экономических и партийных групп, сплошь и рядом между собою резко враждующих, трактовалось — как и во время революционного царского режима — как единое целое всякий раз, когда та или иная часть его или политическая партия совершала то, что не нравилось гетманскому правительству. Когда Директория организовала восстание против гетмана, и еврейские социалистические партии, считая политику гетманского правительства гибельной для широких народных масс, отнеслись сочувственно к новому республиканскому движению, то волынский губернский староста С.В. Андро пригласил к себе президиум еврейской общины в лице Я.А. Шпильберга, Н.М. Эвенчика (не имевших ничего общего с социалистическими партиями) и Я.О. Розенблата и, приняв их крайне грубо, заявил им в присутствии многих свидетелей: «В Бердичеве сволочная еврейская молодежь расстреливает офицеров-добровольцев, борющихся с большевиками (т.е., очевидно, с войсками Директории). Передайте населению, что я больше этого не потерплю; за малейшее большевистское выступление евреев я залью Житомир еврейской кровью» (показания члена Трудового конгресса П.М. Дзевалтовского, Я.О. Розенблата и Е.Б. Эльясберга; т. 1, л. 124—128, 68—73 и 89—91). Угрозы Андро имели своим результатом то, что не только еврейская демократия, но и еврейская буржуазия, экономически заинтересованная в торжестве гетманского режима, имевшая в составе гетманского правительства своего представителя (министра торговли и промышленности С.М. Гутника), изменила свое отношение к правительству гетмана и встретила занятие войсками Директории Житомира почти благожелательно. Еврейская же демократия встретила войска Директории с чувством радости, а когда в Житомире произошли вооруженные столкновения между немцами и войсками Директории, оказала им ряд услуг, укрывая солдат армии Директории и тайно снабжая их (с опасностью для жизни), продовольствием.
Первые шаги деятельности Директории — восстановление национально-персональной автономии, образование еврейского министерства и т.д. — укрепили, если не все, то, во всяком случае, значительную часть еврейского населения в убеждении, что торжество Директории несет с собой новую эру для евреев. Но вскоре Директория вступила в отношении евреев на путь традиционной политики огульных обвинений и преследований. Все еврейское население, без различия класса и партий, было взято под подозрение. Постунки отдельных лиц или отдельных групп еврейского населения стали опять приписываться всему еврейству. По мере роста большевизма на Украине, когда Директория, склонная вначале заключить соглашение с большевиками для борьбы против Деникина, начала все более терять почву под ногами, отношение ее к национальным меньшинствам, в том числе и к евреям, все ухудшалось, а национальная политика ее агентов на местах приобретала все более двусмысленный характер. Командный состав войск Директории был настроен определенно антисемитически. В действиях местных властей Директории, в особенности военных, начинало все более проявляться стремление вовлечь революционно настроенные массы с пути классовой борьбы и направить их на путь национальной борьбы. Зная, что волынское крестьянство и мещанство издавна настроено антисемитически, что направить страсти против еврее всего легче, военные власти Директории, приобретавшие все большее влияние, вели нередко политику, имевшую яркий антисемитический характер. Представители военного командования войск Директории на местах сплошь и рядом отказывали в приеме евреев в армию (в Черняховке евреи не были приняты в войска даже по мобилизации), а члены Директории в то же время обвиняли евреев в том, что они не вступают в армию. Обвинения, бросавшиеся еврейскому населению, нередко взаимно противоречили друг другу. Так, гетманские власти, как видно из изложенного, грозили залить Житомир еврейской кровью за то, что еврейская молодежь борется против гетмана вместе с войсками Директории, а в военных кругах Директории раздавались обвинения по адресу евреев в том, что они не помогали Директории свергнуть гетмана. Во время борьбы немцев с войсками Директории евреев, опять-таки не отдельные элементы еврейства, а всех евреев вообще, обвиняли, с одной стороны, в сочувствии немцам, с другой стороны, сами немцы обвиняли их в антинемецком настроении и в оказании помощи войскам Директории; взяли в качестве заложников ряд представителей еврейской буржуазии и демократии (тогда как из других национальностей никто взят не был) и даже высказывали взгляд, что петлюровцы подкуплены евреями и потому действуют против немцев. Для евреев все истолковывалось не в их пользу, и даже то обстоятельство, что евреи-солдаты, понимавшие или быстро научившиеся понимать немецкий язык благодаря сходству с ним еврейского разговорного языка, назначались в германских лагерях для военнопленных переводчиками, что влекло за собою некоторые привилегии, вызывало неудовольствие среди солдат-христиан, грозивших, как показывает Н.Д. Гладкий, что они расправятся за это с евреями, когда вернутся на родину (показания Н.Д. Гладкого, А.Я. Шура, М.Д. Скоковского и Э.Б. Эльясберга; т. 1).
Экономические потрясения и продовольственные затруднения, явившиеся результатом войны, дали новый толчок для усиления антисемитизма. Исчезновение с рынков предметов обрабатывающей промышленности и многих продуктов, необходимых деревне, дороговизна предметов первой необходимости и сопряженная с ней спекуляция крайне обострили экономический антагонизм между городом и деревней. Деревня, плохо разбираясь в таких сложных экономических явлениях, как дороговизна и спекуляция, не понимая, что они являются неизбежным последствием войны, и [осушествляя] наблюдения все увеличивающегося роста цен на необходимые ей продукты и все растущую спекуляцию, бороться с которыми оказались бессильными как дореволюционное правительство, так и правительство революционное, начинала относиться все более враждебно к городскому населению, которое, как казалось деревенским жителям, ничего ей не дает и лишь требует от нее все новые и новые жертвы; а так как в городах Волынской губ. торговля, в силу исторических условий и запрещения евреям заниматься в течение нескольких веков многими отраслями труда, сосредоточена, главным образом, в руках еврейских, то все недовольство крестьянства, городского мещанства и местного чиновничества направлялось преимущественно против евреев. Свидетели, принадлежащие к составу администрации, служившей при Директории, как-то: начальник милиции [..], Н.В. Иванов, А.М. Яшенко и Н.А. Немошкаленко, повитовый есаул Н.Д. Гладкий и др. показывают, что на почве вздорожания всех предметов потребления и на почве спекуляции среди христианского населения замечалось враждебное отношение к евреям, независимо от рода их занятий (т. 1Б., л. 3—3 об, 10; т. 1, л. 30). При этом элементы, огульно обвинявшие в спекулятивной деятельности все еврейское население, несмотря на то, что торговлей занимается лишь меньшинство его, а большинство — ремесленники, рабочие, родовая интеллигенция — само страдало от спекуляции, не обращали внимания на то, что в лавках евреев как предметы первой необходимости, так и другие товары продавались не дороже, чем в лавках христиан (показания Марии Бернетевич; дело № 14), и не отдавали себе отчета, что спекуляция объясняется причинами классового характера, а отнюдь не национального.
III.
Надлежит однако заметить, что антисемитские настроения, наблюдавшиеся в Житомире под влиянием всех указанных выше причин, не выливались до январских дней 1919 г., несмотря на антисемитскую агитацию темных элементов населения, проявившуюся особенно ярко на кладбище во время похорон погибших на фронте в дни борьбы с немцами солдат петлюровской армии, в форму стихийной народной ненависти, грозившей стихийным погромом. Наоборот, показаниями многочисленных свидетелей, допрошенных Следственной комиссией, установлено, что, несмотря на наличность всех указанных выше фактов, ничто не предвещало в Житомире до января 1919 г. возможности погрома. Так, учитель гимназии Н.Н. Бернатович удостоверяет, что погром явился для житомирской русской интеллигенции полной неожиданностью (дело № 14). Гласный М.Д. Скоковский, имевший возможность лично ознакомиться в качестве члена Следственной комиссии с настроением расквартированных в Житомире войсковых частей, и член управы А.Я. Шур свидетельствуют, что настроение солдат хотя и было в некоторых частях антисемитским, но отнюдь не было погромным. Побывав несколько раз в Житомирском полку, гласный М.Д. Скоковский вынес впечатление, что этот полк далек и даже чужд был до января 1919 г. какой бы то ни было юдофобской окраски. При рассмотрении дел отдельных евреев, служивших в отрядах державной варты, заподозренных в дружбе к гайдамакам, принадлежность к еврейской национальности нисколько не влияла на отношение солдат к подсудимому и не замечалось разницы в отношении к обвиняемым евреям и не евреям. Среди городского населения окраин и приезжающих в город из соседних деревень крестьян не замечалось, по свидетельству гласного М.Д. Скоковского, погромного настроения. Разговоры о том, что евреи скрывают товар в целях спекуляции, имели место, но эти разговоры отнюль не носили характера национальной травли. Товарищ председателя Волынского губисполкома Абрам Гилинский категорически утверждает, что погромного настроения в частях житомирского гарнизона до соприкосновения их в январские дни с солдатами отряда Палиенко не было, что погромное настроение явилось у них результатом толчка извне после означенного соприкосновения и что в Житомире безусловно не было бы погрома, если бы город не был занят отрядом Палиенко. Гласный Н.О. Таран также категорически утверждает, что в Житомире никогда не было бы погрома, если бы того не захотела власть, если бы погром не был организован. Товарищ городского головы И.П. Вороницын свидетельствует, что антисемитское настроение, существовавшее издавна в Житомире, в особенности среди городского мещанства и чиновничества, находилось в потенциальном состоянии, и что для того, чтобы оно вылилось в форму погрома, необходимы были особые условия, а именно — уверенность в том, что власть желает погрома, дозволяет его и использует. Член Совета житомирской еврейской общины И.А. Барон свидетельствует в качестве местного старожила, что отношения между еврейским и христианским населением носили до погрома такой характер, что если бы погромное настроение не было занесено в Житомир извне, то здесь погрома никогда не было бы (показания Э.Б. Эльясберга, М.Д. Скоковского, А.Я. Шура, Н.О. Тарана, Абр. Гилинского, И.П. Вороницина и И.А. Барона; т. 1).
Сводя воедино показания свидетелей, надлежит, таким образом, прийти к заключению, что все указанные выше факторы создавали подходящие условия для погрома, но не они сами по себе его вызвали. Так обстояло дело вплоть до 3—5 января, когда в Житомире произошли события, использованные всеми антисемитскими элементами для нового похода против евреев и ставшие, благодаря антисемитской агитации, с одной стороны, и поведению власти Директории — с другой, одним из важнейших факторов, давшим внешний повод к устройству первого (январского) житомирского погрома.
Переходя к изложению этих событий, надлежит указать, что уже после первого занятия Житомира войсками Директории здесь образовался Совет рабочих депутатов, действовавший сначала легально, а затем нелегально. Местные военные и гражданские власти, назначенные Директорией, пытались использовать Совет в своих целях и принимали все меры к тому, чтобы убедить его остаться на профессиональной почве, не стремиться к захвату власти и не заниматься политикой. Однако это им не удалось. Все стремления приостановить распространение большевизма как путем непосредственной борьбы с ним, так и путем своего рода «зубатовской» политики, выражавшейся в стремлении склонить советы заниматься только «экономикой», оказались безрезультатными. Большевизм захватил не только рабочих, но проник и в крестьянскую среду. Созванный 30 ноября по инициативе заведующего политическим отделом штаба Оскилко —Н.Д. Гладкого и при содействии местных военных и гражданских властей Директории съезд крестьянских депутатов оказался настолько проникнутым большевизмом, что Н.Д. Гладкому пришлось из опасения принятия съездом чисто большевистской резолюции предложить съезду полубольшевистскую резолюцию, которая и оказалась принятой, и в которой говорилось, что власть на местах должна принадлежать советам рабочих и крестьянских депутатов, но должна перейти в руки советов организованно по всей Украине и что поэтому не следует захватывать власть в отдельных местах, а надо подождать, пока весь народ решит вопрос о власти на Трудовом конгрессе, так как иначе может пролиться кровь. Большевистская агитация пользовалась большим местным успехом и в солдатской среде. Наибольшим успехом она пользовалась в казармах Левковского полка, который считался в советских кругах наиболее сознательным. Менее прониклись болышевизмом солдаты Черняховского полка, причем некоторые элементы Черняховского полка провоцировали солдат примкнуть к болыневикам, преследуя, по-видимому, свои провокационные цели.
После селянского съезда в Житомире образовался Объединенный комитет советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в состав которого вошло 14 представителей Совета солдатских депутатов, 31 представитель Совета крестьянских депутатов и 14 представителей Совета рабочих депутатов. Всего в состав Объединенного исполнительного комитета советов входило, как видно из изложенного, 49 чел., из которых христиан было 39 или 40 чел. (31 представитель крестьянского совета, 14 представителей солдатского совета и 4—5 представителей рабочего совета) и евреев 9 или 10 чел. Евреи имелись, и даже преобладали, только в Совете рабочих депутатов, что объясняется тем, что в Житомире большинство ремесленников и рабочих составляют евреи. Наиболее сознательным и влиятельным в идейном смысле был Совет рабочих депутатов, представители которого вели определенную агитацию в солдатской среде, которая со своей стороны стремилась оказать влияние на селян. Но фактически хозяином положения был Совет солдатских депутатов, так как в руках солдат была вооруженная сила (показания заведующего отделом штаба Оскилки Н.Д. Гладкого, Э.Б. Эльясберга, члена Совета профессиональных союзов М. Ваксмана, А.Я. Шура, осадного командира К. Возного, А. Голянского; т. 1, л. 22—25, 97—99, 197-198, 112—123, 194—196).
Отношение военных и гражданских властей было двойственным. С одной стороны, они, ведя борьбу с большевиками, боролись как будто бы и с большевистски настроенными революционными организациями. С другой стороны, они принимали меры к организации Совета солдатских депутатов и даже оказывали Совету солдатских депутатов и Объединенному исполнительному комитету полное содействие, поскольку они надеялись с их помощью укрепить свою власть. Так, осадный комендант г. Житомира К. Возный, как видно из собственных его показаний, а также из показаний ближайшего его сотрудника по комендатуре И.Н. Выкиданца (т. 1; л. 74—77 и 97—99), еще до организации в Житомире Совета солдатских депутатов, по собственной своей инициативе, желая сдержать разложение в войсках Директории, решил организовать Совет солдатских депутатов и послал об этом телеграмму в Киев, мотивируя свое ходатайство тем, что за отсутствием командного состава только подобный Совет может внести сдерживающее начало в советскую среду. Из Киева был получен отчет, что разрешение на организацию Совета солдатских депутатов может быть дано только Советом министров Директории. Однако, когда Совет солдатских депутатов образовался, то заведующий политическим штабом Оскилко Н. Гладкий вошел в состав Объединенного комитета советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в качестве официального представителя штаба Оскилко. Гладкий представил в распоряжение Объединенного комитета типографию загального отдела, а военные власти не только не принимали никаких мер к недопущению большевистской агитации в казармах, которая велась совершенно открыто и свободно, не согласились даже на допущение в армии выборного начала. Невступление представителей некоторых социалистических партий — меньшевиков и Бунда — в состав Советов местные представители власти Директории, [например], Гладкий, считали роковой ошибкой (показания Н. Гладкого, Возного, Выкиданца и Ваксмана; т. 1, л. 22-25, 97—99, 74—78, 197—198).
Внешний успех большевистской агитации в рабочей и крестьянской среде в армии побудил часть житомирских коммунистов поднять вопрос о провозглашении на Волыни Советской власти. Часть членов Совета рабочих депутатов, близких по своим взглядам к большевикам, однако находили, что провозглашение Советской власти на Волыни представляется в данный момент нецелесообразным, так как население Волынской губ. — преимущественно крестьянское, малосознательное, отсталое в культурном отношении — и начинать распространение Советской власти на Украине с наиболее отсталой губ. до занятия большевистскими войсками центра Украины — Киева, неправильно. В ответ на это другая часть коммунистов и левых эсеров указывала, что в крестьянской среде Волыни под влиянием всего пережитого во время оккупации Украины немцами и во время гетманского режима, когда практиковалась система карательных экспедиций, настроение большевистское, и провозглашение Советской власти встретит поэтому именно на Волыни сочувствие в крестьянстве. В то же время некоторые группы солдат стали все более настойчиво добиваться перехода власти в руки советских организаций. Это обстоятельство побудило ту часть коммунистов, которая стояла за немедленное провозглашение власти Советов в Житомире, поставить 3 января 1919 г. вопрос этот на обсуждение Объединенного исполнительного комитета советов, который и разрешил его в положительном смысле, постановив опубликовать манифест об объявлении в Житомире Советской власти. На заседании. Объединенного исполнительного комитета, из которых представителей Советов солдатского и крестьянского было 21 [чел.] и представителей Совета рабочих депутатов — 14.
Захват власти в руки Советов прошел совершенно безболезненно. Однако часть солдат Черняховского полка объявила себя нейтральной, предпочитая не вмешиваться в борьбу между Директорией и Советской властью. С другой стороны, часть солдат, как выяснилось, после перехода власти в руки советов, оказалась проникнутой большевистскими лозунгами чисто внешне, имея о большевизме крайне смутное понятие.
Местные высшие военные и гражданские власти Директории, как только в городе стало известно решение Советов взять власть в свои руки, резко переменили свое отношение к Советам. В то время как до этого и губернский комиссар Сумкевич, и представитель главнокомандующего Оскилко — Гладкий, [и] осадный комендант Возный всячески старались войти в контакт с деятелями Советов с целью склонить их оказать содействие власти Директории, все упомянутые лица, как только им стало известно о решении Исполнительного комитета провозгласить в Житомире Советскую власть, сейчас же уехали из Житомира, направившись сначала в Бердичев, а оттуда в Киев (показания Н.Д. Гладкого, Выкиданца, коменданта г. Житомира Клечковского, Э.Б. Эльясберга и др.; т. 1, л. 22—25, 74—78, 90—91, 94).
Перед своим отъездом из Житомира ни высшая в городе гражданская власть, ни осадный комендант Возный не издали никакого приказа об эвакуации правительственных и военных учреждений. Оставшиеся в городе представители комендатуры истолковали это, как видно из показаний повитового есаула Петра Гладкого, в том смысле, что они могут остаться на своих местах и исполнять свои обязанности и после захвата власти большевиками. И действительно, все старшины комендатуры продолжали исполнять свои обязанности и после перехода власти в руки Советов вплоть до того момента, когда в город вступили вновь войска Директории, не усматривая, очевидно, ничего предосудительного в таких быстрых переходах со службы в войсках Директории на советскую службу и с советской службы на службу Директории и [оправ]дывая эти переходы тем, что большевики заявили в январе, что они будут работать со всеми социалистическими партиями (показания Н.Д. Гладкого и И.Н. Выкиданца, т. 1, л. 30 и 74-78).
5 января, после появления на улицах «Манифеста» Военно-революционного комитета о провозглашении в Житомире Советской власти, воинскими частями, поддерживавшими Советскую власть, были заняты по распоряжению Военно-революционного комитета помещения телефонной сети, телеграфа, вокзала, банков, были опечатаны сейфы и т.п. На следующий день, т.е. 6 января, начали доходить слухи об еврейском погроме в Бердичеве, учиненном занявшим его войсками отряда Палиенко, и о наступлении войск Директории со стороны Бердичева, что подтверждалось звуками артиллерийской стрельбы, доходившей до города. Советские власти вскоре вступили в соприкосновение с войсками Директории, с сечевиками. Встретившись с советскими войсками, сечевики начали вести, по словам т. Председателя Волынского губисполкома Абрама Гилинского, среди солдат, стоявших на советской платформе, провокационную агитацию в том же направлении, в каком вели ее впоследствии Соколовский и Григорьев, утверждая, что они, сечевики, стоят также за Советскую власть, но против «жидов», что они тоже большевики, но против комиссаров, что они займут Житомир лишь на несколько дней праздников, чтобы пограбить, а потом уйдут. «Нам только нужно пограбить», — говорили сечевики солдатам советских отрядов. Командный состав сечевиков вел среди солдат такую же провокационную агитацию.
Во вторник, 7 января, в городе были арестованы, по распоряжению Военно-революционного комитета, представители еврейской буржуазии, и в том числе [член] Житомирской городской управы Я.А. Шпильберг, с целью получения у них контрибуции, так как ни у Военно-революционного комитета, ни у Исполнительного комитета совета не было средств. В момент, когда были произведены эти аресты, однако, уже выяснилось, что дальнейшее сохранение Советской власти в Житомире представляется маловероятным, так как на Житомир наступали войска Директории, а войска, посланные им навстречу, отчасти отступили, отчасти разбежались, а отчасти перешли на сторону войск Директории (показания бывшего городского головы А.Ф. Пивецкого, т. Председателя губисполкома А. Гилинского и члена Совета профессиональных союзов М. Ваксмана; т. 1, л. 197—198, 194—196).
День 7 января прошел в Житомире крайне тревожно. Под влиянием известий о погроме в Бердичеве и слухов об отступлении советских войск в городе стали говорить все более определенно о возможности погрома. Тревога особенно усилилась к вечеру, когда в городе кое-где произошли случаи эксцессов по отношению к евреям. Так, на площади Александра И какими-то громилами был разбит рундучок. На Петроградской улице группа солдат, увидев гласного Городской думы Е.Б. Эльясберга, крикнула ему: «Стой! Эльясберг остановился. «Ты еврей?» — последовал полувопрос-полуутверждение. «Еврей», — ответил Эльясберг. Тогда кто-то крикнул: «Бей его». Однако благодаря заступничеству одного из присутствовавших Эльясбергу удалось избежать расправы. В тот же день, около восьми часов вечера, у здания Городской думы разлавалась матерная брань по адресу проходивших мимо евреев. За вышедшим в это время из здания Городской думы гласным Гольфельдом была устроена форменная погоня. Гольфельду пришлось сбросить пальто и галоши и прятаться. По нему стреляли и только случайно он спасся.
Все эти случаи имели, однако, единичный характер. К 10 часам вечера 7 января было на улицах уже совершенно безлюдно. Только маленькие группы солдат по 2—3 чел. второпях проходили по улицам, направляясь к площади (отдельные прохожие беспрепятственно возвращались домой). Ночь с 7 на 8 января прошла спокойно. Солдаты расквартированных полков в Житомире в одиночку и группами покидали город, так как большевистские части были обойдены с правого фланга.
Первые части отряда Налиенко ворвались в город со стороны вокзала и прибыли по железной дороге во вторник 7 января между 10 и 11 часами вечера. В среду, 8 января, в 6 часов утра, т.е. еще до погрома в городе, возникшего в часов 7—8 утра, деятели городского самоуправления получили по телефону от прибывших в город военных властей приказ явиться на вокзал, с предупреждением, что если они не явятся в течение ближайших часов, то по городу будет открыта артиллерийская стрельба. Сам Палиенко прибыл в Житомир также в среду 8 января, но несколькими часами позже (показания Гладкого, Выкиданца, Шура, ПНодгорского, Левчановского, Гилинского, Ваксмана, Эльясберга, Гольдфельда и др.; т. 1, л. 22—25, 74—78, 78—83, 89—91, 100—107,112—123, 194—196, 197—198, 199).
IV.
С раннего утра 8 января начался разгром магазинов и лавок на площади Александра II и на базаре. Часов в 8 утра на углу Михайловской и Большой Бердичевской улицы солдаты в касках уже разбивали стекла и двери одного магазина (показания А.Я. Шура). В это же время был в полном ходу разгром магазинов по Петроградской улице. В этом пункте громили исключительно солдаты стоящих в Житомире полков, уходившие из города. Но Петроградской улице, по направлению к Крошне, двигалось много солдат, которые несли разные, видимо, награбленные вещи (показания бывшего податного инспектора А.Ф. Токаря; т. 1, л. 11-12).
Часам к девяти утра на площадь Александра II прибыл грузовик с солдатами отряда Палиенко. С грузовика был дан залп. Толпа разбежалась. Грузовик остался на площади и начал стрелять по городу по окнам домов. С этого момента начался повальный погром (показания Э.Б. Эльясберга). В 9 час. утра погром был в полном разгаре.
В центре города, на площади, на Бердичевской, Киевской, Михайловской улицах слышалась почти непрерывающаяся ружейная и револьверная стрельба. Время от времени раздавались оглушительные звуки от разрыва бомб — это разбивались более крепкие двери и шторы магазинов. Из разбитых магазинов солдаты всех видов — в касках и шапках с красными шлыками, в разнообразном солдатском обмундировании и просто в-крестьянской и мещанской одежде, но при полном боевом вооружении — вытаскивали и уносили разные вещи. Разбирая в магазинах вещи, солдаты часть вещей выбрасывали из магазинов на улицу и тротуары. Стоявшие тут же группы женщин, подростков и детей жадно набрасывались на добычу и уносили ее. Наряду с солдатами в разгроме магазинов принимали участие и штатские лица, принадлежащие, судя по их внешности, к жителям городских предместий и окраин, к низшему служилому элементу, а также к жителям окрестных деревень и сел. Виднелись среди толпы громил и грабителей также и люди по внешности и одежде несомненно интеллигентные: чиновники, учащиеся. Погром производился методически и спокойно, как будто в уверенности в полной безнаказанности творимого. Разгромлялись одна улица за другой, или ряд магазинов, расположенных на той же улице и т.д. Нередко встречались отряды из солдат и штатских в 5—10 чел., которые отправлялись по указаниям наводчиков, главным образом мальчишек и подростков, в ту или другую часть улины, в тот или другой магазина или квартиру. Наводчиками были нередко дворник и прислуга.
У перекрестков улиц встречались целые заставы из вооруженных людей и солдат, которые пропускали или не пропускали отдельных лиц и прохожих, определяя их отношение к погрому. Нередко перед началом разгрома более богатых магазинов с улицы, где должен был начаться погром, удалялись толпы любопытных или ждущих начала разгрома [людей], и только после окончания разгрома привилегированной частью погромщиков в разбитую лавку беспрепятственно допускались толпы более мелких грабителей, заканчивавщих работу вожаков и главарей погрома.
На улицах города, отдаленных от центра погрома, появлялись группы и одиночные люди, несшие целые узлы, охапки, мешки, коробки и отдельные штуки различных вещей и предметов. Так, на одной улице свидетель Пивецкий видел проходивших лиц, среди которых одно было в дамской ротонде и поверх ее розовое одеяло, другие — с целыми кусками материй и т.д. Свидетель Подгорский встречал группы людей, тащивших на плечах и в сумках кожу, сукно, одежду. Свидетель К.П. Новиков наблюдал, как солдаты и женщины, типа мещанок, с ручными сумками и корзинами, а также громилы других типов, совершенно спокойно и не торопясь разбирали товары; некоторые из них даже примеряли фуражки. Грабители чувствовали себя, по словам свидетеля К.П. Новикова, «как дома», спокойно разбирали награбленное и делились им, причем каждый набирал, что ему приходилось по вкусу. Свидетель[ница] С.А. Домановская наблюдала толпу мальчишек, бежавших в город с довольными лицами и затем возвращавшихся с наполненными мешками и корзинами. Свидетель А.М. Левчановский удостоверяет, что когда он 8 января пошел в город, то мог только дойти до архиерейского дома. Дальше пройти было невозможно. Дорогу перегородила какая-то застава, которая пачками стреляла, и неизвестно было, прекращает ли она этим погром или не пропускает ненужных ей свидетелей погрома. Людей более или менее прилично одетых прогоняли, пропускали на Бердичевскую улицу только людей с винтовками, а может быть по знакомству или по протекции, так как лица подозрительного вида все же ходили взад и вперед по Бердичевской улице.
Со слов своего знакомого В.П. Ржепоцкого тот же свидетель рассказывает, что разбирали и грабили магазины вооруженные люди, но кто они — из местных ли полков или из осадного корпуса Палиенко — трудно было узнать. После того как магазин был разбит, туда заходил и брал товар всякий, главным же образом мещане из пригородов и крестьяне из сел около Житомира. Потом говорили, что даже была установлена «такса натурой» за перевозку награбленного на другой берег Тетерева против Помиг. Можно было наблюдать и приезжавшие в город крестьянские подводы, которые потом уезжали, нагруженные награбленным имуществом. По показанию свидетеля К.П. Новикова, среди лиц, несших в первый день погрома награбленные вещи, можно было видеть и лиц по внешнему виду еврейской национальности. Однако такие случаи были сравнительно редки.
Насилия и грабежи, производившиеся солдатами, как прибывшими, так и ранее находившимися в Житомире, совместно с подонками населения, прогрессировали с каждой минутой, не встречая никакого противодействия. Выстрелы, производившиеся исключительно солдатами, причем в некоторых случаях исключительно с провокационной целью, раздавались по всему городу. Группы конных и пеших солдат без всякой системы то пропускали кучки громил, то препятствовали им проникать в громимые улицы, и везде неуклонно принимали сами участие в погроме, который к вечеру принял стихийные размеры. Двери и окна магазинов выбивались прикладами, топорами, а иногда взрывались ручными гранатами.
Награбленное имущество носилось по улицам беспрерывными вереницами людей в солдатских шинелях и штатской одежде. На глазах представителей Думы отдельные женщины затаскивались в разгромленные помещения и подвергались насилиям, о чем можно было судить по их истерзанному виду.
По улицам города иногда проезжал грузовик, на котором группой солдат нагружались товары из магазинов и отвозились, по-видимому, на вокзал (показания А.Я. Шура, И.Н. Тарана, А.Ф. Пивецкого, К.Н. Новикова, С.И. Подгорского, И.Н. Ратнера, А.М. Левчановского и др., т. 1; рапорт начальника житомирской городской милиции, т. 1).
Можно было видеть множество солдат с целыми мещками награбленных вещей: многие из них бросали стоявшим на улицах женщинам, главным образом прислугам, боты, ботинки и др. предметы, которые им, очевидно, уже некуда было девать (показания И.Н. Ратнера) или продавали их, кому случится, за бесценок.
Участие в погроме принимали солдаты всех частей, находившиеся тогда в Житомире. Однако солдаты Осадного корпуса атамана Палиенко, в особенности бывшие в шапках с красными верхами, считали себя как бы главарями положения. Палиенковские солдаты старались не допускать других грабить. Вещи свозились на вокзал на грузовиках (показания Э.Б. Эльясберга). Солдаты с красными верхамина шапках несли как бы караульную погромную службу, отбирая у других солдат и громил и забирая себе награбленные вещи. Эти же солдаты свозили награбленное в комендатуру и там распоряжались им по своему усмотрению (показания свидетелей Левчановского и Выкиданца).
Первые два дня погром носил характер грабежа и разбоя, систематических убийств и насилий против евреев не было. Были случаи изнасилования и попыток к таковому, производившиеся тут же на квартирах ограбленных лиц, часто на глазах родителей, мужа, братьев и сестер насилуемых; но случаи эти были сравнительно редкими, и то главным образом [происходили] тогда, когда ворвавшаяся банда грабителей или кто-нибудь из них были пьяны (показания Златы; т. 1, л. 39; Шлиомы Пресмана, дело № 30 и др.). В эти дни было ограблено также несколько христианских магазинов и квартир, преимущественно из числа тех, на которых не было нарисовано, как на многих квартирах и магазинах, крестов, предохранявших от погрома (показания Н.О. Тарана и И.П. Вороницына). Особенной вражды против евреев, ненависти, стремления к издевательствам и надругательствам не было. На некоторых улицах евреи целыми группами стояли в воротах усадеб, мимо них проходили разные люди, и никто их не трогал (показания А.М. Левчановского). Однако антиеврейское настроение проявлялось среди солдат то в той, то в другой форме. Так, свидетель М.Д. Скоковский 8 января днем видел, как молодой солдат в каске гнал перед собой по Киевской улице старика-еврея и беспощадно избивал его нагайкой. Того же свидетеля М.Д. Скоковского два раза останавливали на улице и проверяли документы по подозрению в том, что он еврей. Таков был характер погрома в течение первых двух дней.
К 10 января погром в центре города как бы стих. Однако 10 января погром разразился с новой силой, но сферой его действий явились более отдаленные части города: Кодовка, Сенная площадь и окраины. В разгроме теперь принимали участие, главным образом, подонки населения: жители предместья Малеванки и окрестных деревень — Сыш, Левкова и др. При помощи небольших отрядов, высылавшихся комендантом Возным по требованию городской управы, иногда отряда в 2—3 чел. надежных милиционеров, удавалось отстоять ряд домов, но бывали нередко случаи, когда высланный комендантом Возным отряд сам присоединялся к громилам (показания А.Я. Шура, Н.Д. Гладкого и др.).
В центре города погром, затихший к 10 января, принял [угрожающий] характер и стал выливаться в целый ряд налетов на усадьбы, дома и квартиры евреев. Отряды из солдат и вооруженных людей врывались в квартиры отдельных жителей и под угрозой расстрела забирали деньги и имущество. Отдельные случаи налетов на квартиры, грабежи в домах и вымогательства имели место и в первые два дня погрома, но с 10 января эта форма погрома стала более определенной и яркой и как бы проводимой по известной системе. До пятницы 19 января было всего несколько случаев нападения на квартиры и убийств; в эти же первые два дня были убиты: Даль (по Острожской ул.), Псахис, Гуденко и Файнлунд (все по Киевской ул.) и [кроме того] было 2—3 убийства и ранения.
С 10 января налеты на квартиры, сопровождавщиеся разбойными нападениями, насилиями и убийствами, приняли массовый систематический характер. Группы солдат в 5—7 чел., иногда со старшинами, врывались в квартиры, собирали жильцов, приставляли их к стенке, не исключая маленьких детей; угрожая расстрелом, глумились, отбирали все драгоценности вплоть до обручальных колец, деньги и платье, а иногда и расстреливали ни в чем не повинных людей, отдававших убийцам решительно все, что при них имелось. Целые кварталы, квартира за квартирой, обходились группами вооруженных солдат, преимущественно в касках и с красными головными уборами; у жильцов отбирались ценные вещи и деньги, некоторые из жильцов без всякого повода отводились на вокзал, отчаянно избивались по дороге и на вокзале, а иногда расстреливались.
Врываясь в дома, солдаты и офицеры часто заявляли, что они разыскивают большевиков. Обращаясь к лицам, ничего общего с большевиками не имевшими, они нередко говорили: «Хотел Советскую власть — вот тебе Советская власть», — и вслед за этим грозили им расстрелом (показания Либера Фильштейна; т. 1, л. 168; заключение следственной комиссии по делу об участии в погроме Георгия Паздерника, дело № 14). Квартиры состоятельных евреев, заведомо чуждых большевизму, подвергавшихся даже арестам со стороны советских властей в качестве заложников, пользовались во время погрома особенным вниманием, в особенности со стороны старшин (показания А.Я. Шура и др.). Были десятки и даже сотни случаев полного разорения и лиц неимущих, у которых была отнята буквально последняя рубаха (показания потерпевших во время первого погрома; т. 2.). Но в первую очередь разгрому подверглись все те же квартиры лиц, у которых громилы надеялись получить побольше выкупа, и наибольшее число налетов произошло в центре города, где живет наиболее состоятельная часть еврейского населения (рапорт начальника городской милиции Ященко; т. 1 Б).
Многих из состоятельных евреев, уведенных из квартир, налетчики потом освобождали за выкуп. Выкупы требовались именем как бы законной власти, как вполне легальная форма контрибуции или наказания, наложенных кем-то на все еврейское население за участие его в большевизме или просто как доказательство лояльности по отношению к украинской государственной власти. Свидетельствует об этом целый ряд расписок самого разнообразного содержания, выданных от имени разных старшин, значковых командиров отдельных частей жертвам погромов, от имени прямо тех или иных частей или полков, просто отдельных сечевиков и гайдамаков. Многие из этих расписок были подписаны совершенно неразборчиво и вымышленными фамилиями, а также званиями несуществующих полков и частей. Так, на квартире Псахиса по Илларионовской ул. одной бандой грабителей была оставлена записка: «Были казаки осетинского полка, дань получили». Пришедшая затем другая партия заявила, что осетинского полка не существует, отобрала эту расписку и взамен ее выдала другую такого содержания: «Обыск произведен, и ничего не найдено. Сечевик Андреевский» (показания свидетельницы Гени Псахис, дело № 15). Наряду с указанными расписками были однако и такие, которые были выданы действительно старшинами и командирами частей.
Некоторых из уведенных из квартир лиц солдаты препровождали в гостиницу «Франция», где им было предложено под страхом расстрела внести денежный выкуп; некоторые из этих лиц выкуп внесли и были освобождены, другие же, не имевшие при себе денег, часто отпускались, чтобы достать их, причем другая часть арестованных оставалась в качестве заложников и отпускалась по внесении денег. На квартиры состоятельных евреев производились усиленные налеты группами лиц со старшинами во главе. Грабители подъезжали на извозчиках, предъявляли в большинстве случаев ордера на право производства обыска за подписью коменданта Дмитренко и тщательно забирали все драгоценные вещи вплоть до серег с ушей женщин. В квартирах, где добыча была особенно ценна, налетчики вели себя весьма вежливо и предупредительно, в некоторых случаях грабители обнаружили и другие таланты в виде игры на рояле и производили обыски под музыку. Некоторые из квартир посетил с целью ограбления сам комендант Дмитренко, который не считал нужным скрывать своей фамилии.
В дни 11-12 января работа налетчиков, как солдат, так и старшин, и количество арестов с целью вымогательства усилились. Явление это обусловливалось, по-видимому, предстоящим уходом отряда Палиенко из города и желанием максимального использования возможности наживы (показания свидетеля А.Я. Шура). Характерен в этом отношении случай ареста и увода на вокзал 32 лиц из усадьбы Вайнштейн по Театральной ул., № 3. В доме этом живет 38 преимущественно еврейских семейств. Когда начался погром, жильцы этого дома, во избежание налетов, закрыли ворота и все ходы на запор.
В течение первых дней погрома было несколько безуспешных попыток небольших групп солдат проникнуть внутрь усадьбы. Наконец, 11 января, около 4 часов дня во двор усадьбы ворвалось около 30—40 вооруженных солдат и, заявив, что из усадьбы кто-то стрелял из пулемета и что в усадьбе есть спрятанные пулеметы, стали производить обыск. Собрав по квартирам почти всех жильцов — мужчин этой усадьбы, а также лиц, скрывавшихся в ней или случайно туда попавших, как, например, секретаря городской управы Рабиновича (бундиста), солдаты вывели всех во двор, свели в одно место и начали якобы допрос. При этом один из солдат в шапке с красным шлыком без всякой причины и повода, не удовлетворившись ответами [на вопросы], заданные им одному из молодых людей, тут же выстрелил из винтовки, убил его наповал.
Убит был Нухим Эпштейн, жилец усадьбы № 3 по Театральной улице. Окружив выведенных лиц, солдаты повели их на вокзал. Арестованных было 32 чел., среди которых были старики и подростки. По дороге все арестованные беспощадно избивались и подвергались насилиям, глумлению и издевательству; кого не успели ограбить на месте. в усадьбе, тех грабили по дороге в несколько приемов, причем на вокзале их почти совершенно раздели, так что почти все попали в арестантский вагон без сапог, шапок и в одних сорочках. Результатом этого ареста явилось требование и получение выкупа от целого ряда арестованных, причем требование выкупа исходило от есаула, официально ведавшего на вокзале арестованными. В качестве выкупа были взяты даже деньги, заведомо для вымогателей принадлежавшие не тому лицу, от которого требовался выкуп, а тому учреждению, в котором это лицо служило, — это случай ограбления кассы ссудосберегательного товарищества, в помещении которого был доставлен с вокзала из числа арестованных в усадьбе Вайнштейн лиц Кашук, член правления ссудосберегательного товарищества, с тем, чтобы он открыл кассу и выдал деньги (показания Короля, Вайнштейн, Кашука, секретаря Городской управы Рабиновича и др.; т. 1, л. 150—193).
Всего в течение погромных дней 8—13 января было убито 53 чел. и ранено 19 чел. Среди убитых были старики, женщины и дети (т. 1, л. 145). Размеры убытков, причиненных во время первого погрома, определить сколько-нибудь точно не представляется возможным, так как цифры убытков, определенных потерпевшими, носят чисто случайный характер и не могут быть приняты как за достоверные данные. По приблизительному подсчету, произведенному городским самоуправлением, сумма имущественных убытков от первого погрома достигает 800 млн руб. (показания члена управы А.Я. Шура; т. 1). По сведениям городской милиции, в центре города ограблено и уничтожено до 99% всех магазинов, а в других частях [города уничтожено], кроме четвертой [части], — 75% (показания начальника городской милиции Ященко; т. 1 Б).
Погром продолжался вплоть до 13 января и прекратился уже тогда, когда грабить, по крайней мере в магазинах, было почти нечего, когда наиболее ярые погромщики считали себя вполне уже удовлетворенными (показания Вороницына; т. 1, л. 110).
V.
Обращаясь к вопросу об имеющихся в делах Комиссии указаниях на виновность в причастности к первому погрому должностных лиц, Следственная комиссия констатирует, что по всем добытым материалам особое внимание обрашает на себя роль начальника вступившего 7 января вечером в город Особого ударного корпуса (для верховной Следственной комиссии) атамана Палиенко (дело № 11; ордер Палиенко на имя Дмитренко и Баха).
На атамана Палиенко, которого свидетели, принадлежащие к самым разнообразным кругам, характеризуют как человека подозрительного, состоявшего во времена гетманского режима адъютантом губернского коменданта Берковского, а после свержения гетмана объявившего себя республиканцем (показания Н.Д. Гладкого; т. 1, л. 25), самодура, полнейшего невежду, тупого хвастуна, не способного разобраться в сколько-нибудь сложных вопросах (показания А.Я. Шура и К.И. Возного; т. 1, л. 119 и 98 об.), не всегда трезвого (показания С.С. Домановской; т. 1, л. 95), но исполнительного и прямолинейного, исполняющего поручения, по выражению атамана Возного, не рассуждая, «как бык» (т. 1, л. 98 об.), — была возложена задача подавить большевистское движение в Житомире.
Отряд сечевиков, во главе которого стоял отряд Палиенко, и он сам прибыли в Житомир из Бердичева, где произошел погром, главное участие в котором приняли сечевики отряда Палиенко во главе с представителями командного состава этого отряда (показания А.Я. Шура; т. 1, л. 122), что последние и подтвердили по приезде в Житомир. Так, комендант ст. Житомир заявил представителям городского самоуправления, вызванным на вокзал по занятии города войсками Директории, что им, комендантом, расстреляно в Бердичеве на одном лишь вокзале столько евреев, что трупами убитых заполнено до крыши два вагона, и что Бердичев еще долго будет помнить его (показания К.П. Новикова и А.Я. Шура; т. 1, л. 86 об. и 116 об.). Свидетель Аврум Горнштейн, житель города Житомира, застигнутый погромом в Бердичеве, спасся там при содействии старшины из штаба Палиенко, взявшего с него | тыс. руб. и усадившего его на поезд, шедший в Житомир. Старшина этот, фамилия коего осталась невыясненной, в разговоре прямо заявил названному свидетелю, что они встретятся в Житомире, что их отряд пойдет туда из Бердичева и в Житомире также будет погром (т. 1; л. 191—192). Известия о том, что отряд Палиенко направляется из Бердичева в Житомир, чтобы и здесь устроить погром, стали распространяться в городе еще до занятия его войсками Директории. Так, когда эшелон Палиенко находился еще на ст. Писки, свидетель Петр Гладкий слышал от лица, одетого в военную форму, что эшелоны едут в Житомир для того, чтобы «бить евреев» подобно тому, как они «разбили уже Бердичев» (показания Н.Д. Гладкого; т. |, л. 30). Солдаты отряда Палиенко, убеждая высланные против них советские войска не воевать с ними, прямо заявляли, что они идут в Житомир на праздники, чтобы пограбить (показания Абрама Гилинского; т.Н…], л. 195), причем солдаты категорически утверждали, как до вступления их в Житомир, так и во время погрома, что атаман Палиенко разрешил им погулять три дня (показания С.С. Демановской, А.Я. Шура и И.Н. Выкиданца; т. 1, л. 96, 118 и 75 об.; заключение Следственной комиссии по делу Георгия Поздерняка и др., дело № 14). Когда Выкиданец заехал 8 января утром в комендантское управление и застал там солдата вновь прибывшего отряда Палиенко, раздававшего награбленные вещи бывшим с ним женщинам, то на вопрос Выкиданца солдат этот объяснил, что им разрешен погром на три дня, а когда Выкиданец по этому поводу выразил сомнение, солдат предложил ему обратиться за справкой к самому Палиенко (показания И.Н. Выкиданца; т. 1, л. 75 об.). Привлеченный в качестве обвиняемого по настоящему делу, ныне расстрелянный Антон Бер, близко стоявший во время погрома к Палиенко, со своей стороны заявил в городской управе в первый день погрома, что «евреев будут бить и магазины будут разгромлены» (показания А.Я. Шура; т. 1, л. 116).
Заявления и действия самого Палиенко и его ближайших сотрудников уже в первые дни погрома подтверждали, что военное командование, в руках которого была сосредоточена вся власть, не только ничего не имеет против погрома, но даже поошряет его. При первой же беседе с представителями городского самоуправления К.П. Новиковым и С.И. Иваницким, состоявшейся 8 января утром, сейчас же по приезде в Житомир атамана Палиенко последний заявил, что Украина окружена со всех сторон врагами, к которым он относит «жидов», поляков, русских, большевиков, румын, Дон и Антанту, что большевистское движение — это «дело рук жидов», что «так это им», т.е. евреям, «не пройдет», что ему предложено Директорией навести порядок в Житомире, покарать город, и что кара и чистка им будет проводима с неуклонной строгостью. По свидетельству члена управы К.Н. Новикова, слова Палиенко можно было понять в том смысле, что он имеет в виду расправу с евреями. Осведомившись о национальном составе членов городской управы, Палиенко предложил товарищу Городского головы С. Иваницкому уволить из управы всех евреев и поляков. На просьбу представителей городского самоуправления приостановить погром Палиенко ответил, что до тех пор, пока его части не будут введены в город, он ничего сделать не может (показания К.П. Новикова, А.К. Левчановского и А.Я. Шура; т. 1, л. 87, 16 об. и 116 об.). Но и после вступления сечевиков отряда Палиенко в город Палиенко никаких попыток к прекращению погрома не предпринял. Лишь в 5 часов вечера 8 января Палиенко после многократных настойчивых обращений представителей городского самоуправления сообщил, что им сейчас же направляется сотня надежных казаков в распоряжение временного коменданта города Житомира, назначенного вместо арестованного, но вскоре выпущенного советского коменданта Выкиданца, служившего до назначения своего на место советского коменданта и после этого — в контрразведке при комендатуре Возного. Однако и это обещание атамана Палиенко сдержано им не было. Прибывший в 8 часов вечера в управу в сопровождении одного солдата и одного лица в штатской форме комендант Клочковский заявил представителям городского самоуправления, что вся комендатура тут налицо, что в его распоряжении никакой силы не имеется, и что на обещанную атаманом Палиенко присылку 60 чел. казаков, — они до сих пор не прибыли, и что [он] не совсем надеется на помощь со стороны обещанного отряда, ибо большинство солдат на вокзале пьяны (показания А.Я. Шура, л. 117).
В тот же день вечером к атаману Палиенко обратился по телефону с указанием на необходимость принять меры к прекращению погрома представитель Украинского национального союза С.М. Подгорский. В беседе с ним Палиенко выдвинул новую причину, почему он не может послать солдат своего отряда, заявив, что его. сечевики очень утомлены, что он боится послать своих людей в город, так как погром очень «заразительная штука», и его люди, не удержавщись, тоже начнут громить (в действительности все те же сечевики, которые хотели грабить и были уже с утра в городе, и грабили). Когда же С.М. Подгорский начал настаивать, чтобы он немедленно послал для прекращения погрома самых надежных людей, то он заявил, что он сейчас же вышлет патруль в город (показания С.М. Подгорского; т. 1, л. 80), но не сделал этого и на этот раз. На следующий день, 9 января рано утром, городская управа, чувствуя себя бессильной прекратить погром ввиду отсутствия у нее какой-либо реальной силы и не встречая поддержки со стороны военного командования, созвала совещание из представителей Украинского национального союза, в том числе Павловского, Подгорского, Левчановского и др. Совещание выделило делегацию в составе С.М. Подгорского, А.М. Левчановского и Б.П. Рженецкого для переговоров с Палиенко для прекращения погромов. Когда делегация явилась на вокзал, один из старших штаба Палиенко не советовал ей, чтобы она беседовала с Палиенко в его вагоне, а не в помещениях начальника штаба Мантуляка, где она застала Палиенко, так как он тут сидит, такая сволочь, которую нужно очень бояться. Палиенко, осведомившись о приходе делегации, пригласил ее к себе в вагон. С.М. Подгорский от имени Национального союза обратился к нему с просьбой принять самые решительные меры к прекращению погрома, так как то, что делают в городе — позор для Республики. На это Палиенко ответил, что он сам понимает, как это плохо, что в городе происходит погром, что он уже назначил коменданта, которому вручил охрану города, что его солдаты [осведом]лены, что его задача — борьба с большевиками на фронте, что для охраны города он может дать казаков, потому что это может привести к нарушению ими дисциплины и к принятию ими участия в погроме, что он уже отдал приказ городскому самоуправлению принять меры к водворению порядка, и что он завтра, т.е.1 января, самое позднее послезавтра, должен оставить Житомир. Представители Национального союза указали, что меры к водворению порядка в городе должен принять он, Палиенко, потому что городская управа не имеет в своем распоряжении ни оружия, ни людей, и [для] прекращения погрома не может организовать охраны города. Но все это было, по словам свидетеля А.М. Левчановского, «як в стену горохом». Палиенко, по выражению того же свидетеля, «товк свое», что охрана города не его дело, что он уже отдал приказ коменданту, что он пробудет в городе не больше одного-двух дней. В конце концов Палиенко все-таки обещал, что, когда его люди пообедают, то он вышлет в город патруль, а также грузовик с пулеметом, как только будет получен бензин из Бердичева, которого сейчас в городе достать нельзя. Между тем в то самое время, когда Палиенко говорил делегации о том, что он не может послать грузовика с пулеметом ввиду отсутствия бензина, другой грузовик разъезжал по городу, заезжал в военный госпиталь по Николаевской улице, а потом на вокзал и свозил на вокзал награбленное имущество. Вообще беседы с Палиенко производили на членов Национального союза и представителей городского самоуправления впечатление, что Палиенко обещает лишь принять меры, но на самом деле ничего не делает, и что быстрая локализация и прекращение погрома не входит, очевидно, в его интересы. Отдав приказ о том, чтобы награбленное отбиралось и свозилось в комендатуру и на станцию, Палиенко тем самым, по словам свидетеля А.М. Левчановского, окончательно легализовал погром, потому что после этого приказа можно было совершенно открыто, не прячась, под тем предлогом, что сечевики не грабят, а только несут отобранное у грабителей имущество на [станцию] согласно приказу Палиенко (показания С.М. Подгорского, А.М. Левчановского и А.Я. Шура; т. 1, л. 80—81, 103—118). Когда представители Национального союза обратились к Налиенко с просьбой освободить секретаря продовольственного отдела студента Трунина, за которого ручается городская управа, то Палиенко, открыв дверь купе, крикнул: «Дмитренко». Явился старшина, к которому Палиенко обратился со словами: «Ты кого арестовал, сукин сын? У тебя сидят арестованные». «Какие арестованные?» — спросил Дмитренко. «Я тебя спрашиваю, где арестованные?» — крикнул Палиенко. Причем слова «сукин сын» все время, по словам свидетеля Подгорского, сыпались из уст Палиенко. Дмитренко снова заявил, что у него никаких арестованных нет, прибавив: «Спитайте, кого хочте». Тогда Палиенко сказал Дмитренко «ступай» и, закрывая дверь купе, обратился: к членам делегации со словами: «Я этого сукина сына расстреляю, я за ним замечаю». Получив уверения, что патруль будет отправлен в город и что арестованных у него нет, представители делегации вернулись в город, где выяснилось, что Палиенко снова их обманул. Никакого патруля в город он не отправил, и арестованные, в том числе студент Трунин, находились в вагоне на вокзале (показания С.М. Подгорского и А.Я. Левчановского; т. 1, л. 81 об. и 104).
Вечером 9 января Палиенко явился в управу и обратился к находившемуся там городскому голове А.С. Пичецкому; члену управы А.Я. Шуру и гласной С.С. Домановской и члену Трудового конгресса П.М. Дзевалтовскому с такой речью: «Украина окружена со всех сторон врагами. Таковыми являются Антанта, Дон, Кубань, поляки, румыны, великороссы, жиды, большевики. Все жиды — большевики. Андро развел здесь болото. Я прислан сюда покарать Житомир, Бердичев, и уже покарал. Ровно, зная о моем приходе, бежит. Я почищу Житомир [так], что в нем не останется никаких совдепов, никаких партий. Он будет чистенький. Счастье города, что я не встречу здесь сопротивления, в противном случае я не остановился бы перед расстрелом города и не оставил бы камня на камне». На попытку городского головы возразить, что евреи принадлежат к различным политическим партиям и что необходимо прекратить в корне разбои, грабежи, Палиенко, отвечая по существу, продолжал: «Я одержал над Житомиром блестящую победу, с небольшим отрядом я разбил болышневиков. Я очень решительный, и мне предоставлены очень широкие полномочия. Я могу арестовать всех, кого захочу, — министров и самую Директорию». Во время речей Палиенко в кабинет городского головы вошел хорошо известный житомирянам Антон Бек. Он сказал Палиенко: «Пора ехать», — после чего Палиенко быстро поднялся и ушел вместе с Беком. По показанию свидетельницы С.С. Домановской […].
Текст документа приведен по сборнику документов «Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918—1922 гг.», ответственные составители: Зюзина И.А., Милякова Л.Б. Подлинники документов хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. Р-1339. Оп. 2. Д. 17. Л. 106—120. Копия; Оп. 1. Д. 417. Л. 148—174. Копия.)
№ 20
Проект докладной записки начальника милиции г. Житомира Волынской губ. И.В. Аббариуса руководству УНР об обеспечении безопасности в городе
Не ранее 10 января — не позднее марта 1919 г.
Докладная записка (проект), составленная заведующим охраной г. Житомира Абариусом для представления Директории
Житомирское городское самоуправление считает своим долгом гражданским довести до сведения Директории о настоящем, крайне тяжелом, совершенно безвыходном и чреватом грозными последствиями положении, создавшемся в Житомире. В качестве первого положения, которое должно явиться основной мыслью всей докладной записки: городское самоуправление свидетельствует свою полную лояльность по отношению к высокому демократическому органу, созидающему ныне украинскую государственность, — к Директории. Городское самоуправление убеждено, и убеждение покоится на самой широкой осведомленности, что все население Житомира проникнуто тем же чувством лояльности и что все мысли его сосредоточиваются всецело на Директории, как на единственном учреждении, могущем обеспечить городу основные условия демократического государственного бытия.
После тяжелых дней массового погрома, имевших место 7—10 января текущего года, в городе создалось положение, тягчайшее для всех классов городских обывателей. Вопросы продовольствия, понимаемые в широком смысле слова; вопросы устроения внешнего порядка и безопасности, создание условий, при которых сделалось бы невозможным повторение грозных явлений погрома, глубочайшим образом развращающих широкие слои населения городского и населения прилегающих сел, — сделались насущнейшими вопросами текущего дня. Городское самоуправление полагало и вместе с ним все мыслящее население Житомира убеждено было, что только интенсивнейшая и планомерная работа, являющаяся плодом тесного сотрудничества между властями гражданскими, военными и органами общественными, в состоянии положить некоторые основания нормальной гражданской жизни. И городское самоуправление считает своим.долгом заявить, что в лице городского самоуправления оно встретило благожелательное отношение ко всем своим усилиям и полную поддержку своим стремлениям водворить в городе гражданский порядок.
Но, с другой стороны, городское самоуправление считает категорическим велением своей совести довести до сведения Директории, что со стороны власти военной оно не видит искреннего стремления положить предел явлениям, глубочайшгим образом нарушающим нормальное течение жизни и возмущающим общественное правосознание.
Бездействие власти, с одной стороны, непродуманные распоряжения — с другой, вселяют в массы населения убеждение, что военная власть в лице комендатуры и корпусного командования совершенно бессильна по отношению к злонамеренным лицам, тесно её окружающим, и по отношению к массам казаков, продолжающим находиться вне начал здравой дисциплины и систематически развращаемым антисемитской пропагандой и теми преступлениями, в которые эта масса постепенно втягивается вся без изъятия.
Схема, которую городское самоуправление положило в основу своих действий, была следующая: 1. Обновление состава милиции, наличные члены которой оказались во многих случаях причастными к грабежам, во время погрома производившимся. 2. Использование уже существующего аппарата ночных сторожей и вооруженных ночных обходов граждан, организованных специальной комиссией общественной безопасности при житомирском городском самоуправлении. 3. Создание резервов милиции в числе до 500 чел., кадры которых должны были комплектоваться. из лиц, рекомендованных лояльными национальными, политическими и общественными организациями. 4. Полагая, что с помощью этих факторов спокойствие в городе будет быстро восстановлено, при отсутствии каких-либо внешних препятствий, непреодолимый характер носящих, городское самоуправление просит вывести из города все войсковые части, кроме галицких сечевиков, в дисциплинированности и высокой гражданственности коих городское самоуправление убедилось с момента первого их вступления в город. К сожалению, общее положение вещей вызвало уход из города именно сечевиков, прочие же войсковые части, бывшие в городе во время погрома, несомненно, погромом глубоко развращенные и никакими определенными делами не занятые, продолжают оставаться в городе, внося в союзе с подонками населения страх и ужас в сердце каждого жителя.
И прежде всего сказанное следует отнести к составу комендантских сотен. Городское самоуправление и Следственная комиссия имели полную возможность убедиться в том, как лица в шинелях, пойманные с награбленными вещами, оказались состоящими на службе в комендантских сотнях, и будучи препровождены в качестве арестованных по этому поводу к г[-ну] коменданту, немедленно им освобождались и имели дерзость многократно являться в самоуправление и в Следственную комиссию с требованием возвращения им награбленных вещей и денег, что Следственной комиссией, ввиду вызывающего поведения преступников и полной их предыдущей безнаказанности, частично выполнялось. Впоследствии эти же лица разъезжали по городу вооруженными на извозчиках, несомненно, продолжая творить свои темные дела.
В числе лиц, близких к комендатуре и в ней влиятельных, между прочим, находился некоторый Бек, хорошо известный городскому самоуправлению как личность ярко преступная, с многократной уголовной судимостью, производившая в 1917 г. нападение на городскую продовольственную управу, причем при этом Бек был арестован, заключен в тюрьму и бежал из нее во время массового побега. Несмотря на неоднократные по этому поводу представления, городское самоуправление и теперь не уверено, что Житомир избавлен от влияния этого преступника.
Таковы явления единичные. Гораздо более значительными в смысле внесения пагубного хаоса в восстановление нормальной жизни являются действия военных властей, носящие общий характер, и бездействие этих властей там, где этому действию надлежало иметь место.
Еще во время погрома в грабящих массах создавались провокационные слухи: «жиды режут христиан», «жиды вооружаются с тем, чтобы нападать на казаков». Одним из инициаторов подобных слухов являлся именно Бек, о котором говорилось выше. По прекращении погрома городское самоуправление ввиду неоднократных указаний комиссариата, комендатуры и самой Директории о необходимости соответственными силами создать охрану города, приступить к формированию резервов милиции, призвало к функционированию аппарата ночных сторожей и вооруженных обходов жителей. Город испросил для этого санкцию коменданта, получив от него обещание предоставить в распоряжение комиссии общественной безопасности 600 винтовок, снабженных комендантскими свидетельствами. Одновременно городское самоуправление просило коменданта издать приказ о возвращении всего награбленного, дабы в населении не укоренилась бы мысль в том, что все происходившее во время грабежа останется безнаказанным. Городским самоуправлением был даже представлен г[-ну] коменданту проект такового приказа. Но приказ до сей поры оказался неизданным.
Согласно предложению коменданта городское самоуправление широко оповестило посредством прессы, раздачи и расклейки соответствующих объявлений [для] всех прибывших в город лиц о цели и назначении ночных обходов, как организации совершенно аполитичной, преследующей исключительно цель охраны жизни и имущества мирных граждан.
И немедленно вслед за этим при первых же действиях ночных обходов городское самоуправление стало лицом к лицу с рядом тяжелых недоразумений. Во-первых, г. комендантом был издан приказ, запрещающий кому бы то ни было арестовывать казаков, не делавший в этом отношении исключений ни для каких обстоятельств. Этим приказом, таким образом, лишались возможности бороться со всеми бесчинствами, производимыми лицами в солдатских шинелях. С другой стороны, несмотря на просьбу, обращенную к г[-ну] коменданту, издать специальный приказ, извещающий находящиеся в городе войсковые части о целях и задачах ночных обходов и институтах ночных сторожей, такого приказа до сей поры издано не было. Винтовки, полученные комиссией общественной безопасности в количестве только 250 штук, были снабжены комендантом свидетельствами лишь в количестве 120 штук: получить свидетельства на остальные винтовки, в распоряжении ночных обходов находящиеся, комиссии до сих пор не удалось.
И в то же время начались партизанские действия со стороны лиц, одетых в солдатскую форму и в форму старшин, по отношению к ночным обходам. Ночные патрули граждан начали обезоруживаться сначала изредка, а потом все чаще и чаще, и в последние дни это обезоружение приняло систематический и все собою охватывающий характер. И тогда мирные патрули обстреливались лицами в военной форме и разъезжавшими на извозчиках из револьверов. Затем эти лица отправлялись в казармы, занятые Кинбурнским полком, брали с собой патруль и разоружали обход граждан, нанося им побои и оскорбления и невзирая на то, что обход был снабжен комендантскими свидетельствами. Об этих случаях немедленно доводилось до сведения комендатуры. Но городское самоуправление до сей поры не видело, чтобы подобные случаи подвергались расследованию.
Наоборот, лица в шинелях, очевидно, опирались на силу приказа, воспрещающего какие-либо против них действия, стали налегать с каждым днем. На другой день вслед за описанным случаем, банда из 8 чел. в час дня прошлась по главным улицам города, грабя у прохожих кошельки и драгоценности под предлогом отыскания оружия. Насколько известно городскому самоуправлению, немедленно доведшему об этом до сведения комендатуры, и это бесчинство осталось совершенно безнаказанным.
Между тем, с одной стороны, налеты на квартиры все учащались, с другой стороны — разоружение ночных патрулей приняло систематический характер. Отряды солдат под председательством старшин, предшествуемые разведкой выходящие и снова заходящие с отнятым оружием в комендатуру, предпринимали широко раскинутые по городу облавы, обходы граждан, отнимая винтовки целыми десятками, нанося патрульным оскорбления действием и выкрикивая антисемитские лозунги.
Жители, видевшие в ночных обходах последнюю надежду на обеспечение своей безопасности, стойко и самоотверженно эту тяжкую обязанность отправлявшие, были, с одной стороны, терроризованы, с другой стороны — среди них начинало нарастать чувство глубочайшего возмущения. Городскому самоуправлению пришлось прилагать все усилия к тому, чтобы удержать его и обходы [от] сопротивления лицам в шинелях, нагло над ними издевавшимися. В ночьс […] вечером [число солдат, обезоруживших [патрули,] возросло до 30 чел. в группе, ибо нападавшие, очевидно, учли тяжелое настроение граждан. Но при этом все фиговые листки были брощены в сторону и обезоружение патрулей и нападение на патрули уже безоружные приняло характер простого грабежа. Отбирались папахи, часы, ботинки, оскорбления и антисемитские выкрики раздавались в каждом отдельном случае.
И городское самоуправление после своего доклада об этом коменданту и командиру корпуса с изумлением прочло в газетах приказ, коим военным патрулям вменялось в обязанность расстреливать на месте, совместно с грабителями, также лиц, коих патруль признает врагами республики и ведущими большевистскую пропаганду. Отдавая, таким образом, все мирное население в неограниченный произвол развращенной и разнузданной массы в серых шинелях, приказ уничтожил всякую возможность для городского самоуправления организовывать какую-либо борьбу с грабежом и насилиями в городе. Ибо в положении аналогичном с нашими патрулями оказывались также и все прочие формирования создавшиеся.
Текст документа приведен по сборнику документов «Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918—1922 гг.», ответственные составители: Зюзина И.А., Милякова Л.Б. Подлинники документов хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. Р-1339. Оп. 2. Д. 17. Л. 103—105 об. Копия.)
№ 21
Доклад уполномоченного ЦК помощи пострадавшим от погромов Я.Б. Лившица о погроме в г. Житомире Волынской губ. 22—26 марта 1919 г.
Позднее 26 марта 1919 г.
21 марта Житомир был оставлен советскими войсками, 22 марта утром на Врангелевку вступили петлюровские войска. После ухода советских войск житомирские общественные деятели решили отправить депутацию навстречу войскам Директории с целью повлиять на нее, чтобы они не устраивали в городе погрома, о чем в городе ходили определенные слухи. Слухи эти были основаны на том, что в городе велась усиленная агитации, антисемитская, погромная. Для того, чтобы агитация имела большой успех, среди темных кругов населения и особенно среди крестьянства были пущены слухи, будто большевики или, как упорно распространяют слухи различного рода провокаторы, «жиды», зарезали во время пребывания советских войск в Житомире 1700 христиан. В действительности, по самым точным сведениям, по распоряжению Чрезвычайки было расстреляно за время с момента провозглашения в городе Советской власти до оставления большевиками Житомира — 6 чел., в том числе один еврей, Айзик Руденко, обвинявшийся в провокации и участии в Овруческом погроме. Из числа остальных пяти расстрелянных Чрезвычайкой — 4 бандита и 1 бывший представитель комендатуры (Скальский). Помимо этих 6 чел. было расстреляно при вступлении советских войск в Житомир и найдено в окрестностях его — 16 петлюровцев. Всего таким образом было расстреляно и убито за время с 12 марта по 21 марта 22 чел. Что список расстрелянных ограничивается этими 22 чел. доказывается, между прочим, тем, что когда украинские власти захотели показать, что не только петлюровцы расстреливали ни в чем не повинных людей, устроив в Житомире погром, но что и большевики расстреляли многих, то они могли опубликовать только списки с 22 убитыми. Советские деятели утверждают, что и число 22 преувеличено, так как некоторые из лиц, попавших в список расстрелянных, в действительности были убиты во время боев. Но если даже считать, что цифра 22 соответствует действительности, то и отсюда видно, как далека действительность от тех фантастических слухов (1700 расстрелянных), которые распространялись с провокационной целью, чтоб создавать озлобление против евреев (что считалось синонимом большевиков) и вызвать в Житомире новый погром. Чрезвычайно характерно, что слухи о 1700 расстрелянных Чрезвычайкой «христиан» распространились между прочим чиновниками, которые, по-видимому, искренно верили в эту басню или делали вид, что верят этому. Чиновничество усиленно муссировало слухи о том, что все учреждения захвачены в Житомире «жидами» и что большевики и жиды — одно и то же. В действительности житомирское население еврейское относилось к большевикам, как и везде, очень различно. Буржуазия, крупная и мелкая, и значительная часть лиц интеллигентных профессий относились к большевикам враждебно. Большевики, со своей стороны, в числе арестованных ими в виде заложников лиц содержали в той же Чрезвычайке до уплаты контрибуции весьма значительный процент евреев. Говорить при таких условиях о тождестве понятий «большевик» и «еврей» можно было только или по крайнему невежеству или с явной провокационной целью.
Как бы то ни было, к моменту возвращения в Житомир петлюровцев атмосфера для погрома была подготовлена не только теми, кто шел вместе с петлюровцами, но и теми, кто оставался в Житомире. О погроме уже в пятницу вечером говорили, как о чем-то неминуемом. Масса евреев ушла из города. Ушла, между прочим, почти вся еврейская молодежь. Среди ушедших весьма значительный процент, если не большинство составляли люди, ничего общего с большевиками не имевшие. Они ушли только потому, что опасались второго погрома. Тем не менее все ушедшие впоследствии одновременно с уходом большевиков были объявлены больщевиками, и при возвращении некоторых из них рассматривали как бежавших из города большевиков. Только благодаря энергичным стараниям городского самоуправления и нескольких общественных деятелей — христиан — удалось спасти группу вернувшихся из Бердичева молодых людей, ничего общего с большевиками не имевщими, от расстрела.
В субботу утром на Врангелевку, где находились первые отряды петлюровских войcк, отправилась депутация в составе: Городского головы Пивоцкого, члена Трудового конгресса Дзевалтовского, товарища председателя городского головы Динцкого и одного из членов еврейской общины. У делегации была только одна задача: оказать влияние на войска, чтобы они не устраивали в городе никаких эксцессов. По дороге в штаб первого отряда, вступившего в город, депутацию встретил какой-то офицер. Он осведомился, что это за делегация и кто в нее входит. Когда он узнал, что в составе делегации имеется между прочим один еврей, он заявил, что не советует им ехать в штаб, дав понять, что в случае дальнейших продвижений делегации, ехавшей на одном извозчике совместно с членом еврейской общины, жизнь этого члена еврейской общины подвергается большой опасности. Делегация после этого решила, что члену общины не следует дальше ехать, и он с большим трудом, уже [не] по шоссе, а другим путем вернулся в город и не был убит только потому, что он мало похож и на еврея и его принимали за христианина. Возвращаясь в город, этот представитель общины уже видел по дороге первые трупы убитых евреев, убитых вступившими в город солдатами. Первым был убит по дороге из Врангелевки в город 70-летний старик еврей, шедший в синагогу с талесом в руке. По показанию очевидцев, его приставили к дереву и выстрелили в него, но не сразу убили. У раненого 70-летнего старика хватило еще силы пройти несколько сажен по шоссе, шатаясь от потери большого количества крови, — затем он упал и тут же скончался.
Когда делегация Городского управления прибыла в штаб первого прибывшего в город отряда, ей стали говорить о 1700 расстрелянных «жидами» христианах. Делегация стала уверять, что число расстрелянных не достигает и ста при самом явном преувеличении, а может быть гораздо меньше этого числа. Когда члены делегации дали честное слово, что это им безусловно известно, то им в штабе сказали, что людей интеллигентных, конечно, можно разубедить, но что солдат в этом не разубедишь. Солдаты, по словам офицеров, находившихся в штабе, настроены сильно против «жидов», и штаб с этим настроением не может совладать, он бессилен.
22 марта начался погром, продолжавшийся 5 дней, из которых наибольшее число жертв было в первые три дня погрома. Общее число жертв погрома составляет в одном Житомире, не считая похороненных в прилегающих к Житомиру деревнях — 317 чел. Полный список убитых во время погрома 22—26 марта при сем прилагается. Среди убитых подавляющее большинство старики, женщины и дети. Молодежи очень мало, так как молодежь ушла вместе с большевиками или пряталась. При налетах на квартиры в некоторых отдельных случаях удавалось откупаться деньгами, а бывали случаи, что налетчики сначала брали деньги, а затем убивали тех, кто эти деньги давал. Вообще в отличие от первого погрома, когда грабители занимались главным образом грабежом, теперь петлюровцы старались как можно больше убить евреев, и если число жертв достигало только 317, то это, во-первых, объясняется тем, что многие христиане прятали у себя массу евреев и тем спасли их, а главным образом тем, что 24.марта вечером началось новое наступление большевиков на Житомир, которое приостановило дальнейшее развитие погрома. Все солдаты были отправлены на фронт.
23 марта, т.е. в самый разгар погрома, Житомир посетил Петлюра. Он был осведомлен о всем происшедшем в Житомире. Он заявил, что для прекращения погрома им отданы все распоряжения. Но в действительности никаких мер для борьбы с погромами до 25 марта принято не было. Только 25 марта полевая жандармерия, т.е. галичане, во главе которой стоял Богацкий, начала бороться с налетами на квартиры. И эта борьба сразу приостановила погром. 24—25 [происходили] только отдельные налеты, и преимущественно только на окраинах, откуда еще 21 марта бежало все еврейское население, предоставив на произвол судьбы свои квартиры, во время погрома разгромленные. Легкость, с которой Богацкому удалось при помощи сравнительно небольшой части галичан приостановить погром, свидетельствует о том, что если бы надлежащие меры были приняты, то погрома бы с самого начала не было. Впрочем, о роли в дни погрома властей лучшее представление дает беседа начальника гарнизона, бывшего офицера Генерального штаба Петрова о создании следственной комиссии о погроме. Выписка из официального журнала следственной комиссии, в которой воспроизведен этот разговор, при сем прилагается. Надо заметить, что мысли, выраженные полковником Петровым в беседе с делегацией Следственной комиссии, были высказаны им в беседе с гласным Городской думы, бывшим товарищем городского головы Иваницким.
Помимо убитых, во время погрома было довольно значительное число раненых. Цифру раненых трудно определить даже приблизительно, так как раненые оставались у себя и за медицинской помощью обратиться не могли. Были случаи, когда тяжело раненые лежали по несколько дней у себя дома без всякой медицинской помощи. Когда на четвертый день погрома были организованы по инициативе гласных Городск[ой] думы Доневской и др. летучие санитарные отряды для оказания помощи раненым, то они встречали нередко противодействия со стороны разгуливающих по улице солдат. Это был случай, когда сестры милосердия [с] несколькими человеками — христианами — несли по улице на носилках тяжело раненого старика-еврея в больницу. Их остановили по дороге в больницу солдаты и хотели добить раненого. С большим трудом сестрам милосердия удалось уговорить солдат этого не делать. Солдаты согласились не трогать раненого, но заставили сестер милосердия отнести его туда, откуда они его взяли, и не дали им возможности отнести раненого обратно в больницу. Ужасающую картину представляло кладбище в дни похорон убитых. Все здание-морг при кладбище было заполнено трупами убитых стариков, женщин и детей.
Когда 24 марта вечером началось наступление на Житомир болыневиков, то в городе стали распространяться слухи, что если большевики займут вновь город, то «жиды вырежут всех христиан». Под влиянием этих слухов на фронт для отражения большевиков отправилась масса христиан. На фронт отправилась большая часть чиновников, много учащихся и чуть ли не все мужское население Малеванки и Врангелевки, где живут все бандиты и погромщики. Среди отправившихся на фронт вместе с петлюровскими солдатами были многие ярые противники украинской власти, пошедшие только потому, что они серьезно верили, что «жиды вырежут всех христиан». Среди лиц, серьезно веривших в это, были люди с университетским образованием, были члены суда и товарищ прокурора. Благодаря выступлению не военных наступление большевиков было в тот же день отражено.
Многие христиане, не отправившиеся на фронт, как только распространились слухи о наступлении большевиков, стали собирать котомки и отправились куда глаза глядят. Интеллигентные христиане стали обращаться к евреям с просьбой их прятать, поменявшись ролями. Когда наступление большевиков было отражено, началось обратное возвращение христиан в город с котомками. Словом повторилось то самое, что было с евреями. При вторичном наступлении большевиков на Житомир, закончившегося на этот раз взятием города, многие христиане на этот раз также ушли из города с петлюровскими войсками только потому, что по городу также распространились те же провокационные слухи о том, что евреи хотят вырезать всех христиан. Но число ушедших на этот раз было меньше ушедших в первый раз.
25 марта, когда налеты на еврейские квартиры еще продолжались, был опубликован приказ за подписью осадного коменданта Возного. В приказе этом между прочим говорилось: «Ввиду установления спокойствия предлагаю («пропоную») населению, в особенности еврейскому, не прятаться по дворам, а выходить на улицу». Гласный Городской думы Прокудин накануне издания этого объявления убеждал Возного исключить указанный пункт объявления, доказывая ему, что нельзя евреям выходить на улицу, когда жизнь их еще подвергается опасности, и что такого рода предложение равносильно своего рода провокации. Тем не менее Возный оставил цитированные слова. Одновременно Возный, а вслед за ним ряд других лиц, в том числе и Богацкий, издали приказ, в котором всем домовым комитетам предлагалось сообщить сведения о всех лицах, оставивших город одновременно с советскими войсками. Эти приказы также вызывали в городе большую тревогу, так как родственники ушедших, не имевших ничего общего с большевиками, стали опасаться, что всех ушедших причислят к большевикам.
Второй погром в Житомире был учинен главным образом солдатами-петлюровцами. Но в нем принимали участие, несомненно, и многие местные жители. Зарегистрированы случаи, когда лица у грабителей были вымазаны сажей, очевидно, чтобы их впоследствии не узнали. Сплошь и рядом [в качестве] грабителей приходили в еврейские квартиры подростки, дворники и прислуги. Приняли участие в погроме и некоторые чиновники. По крайней мере имеются данные о том, что при ограблении некоторых квартир в числе погромщиков были чиновники. Большинство убитых — люди несостоятельные. Объясняется это тем, что более или менее состоятельным людям, у которых были деньги, удавалось спасти свою жизнь при помощи денег. Вообще среди пострадавших подавляющее большинство — беднота или люди среднего достатка. Был случай, когда 74-летнего старика убили только потому, что у него оказалось при себе только 18 руб., а грабители требовали у него 1 тыс., каковых денег у него вообще никогда не бывало. После погрома в официальном бюллетене Губерниального информационного бюро появилось сообщение о том, что одновременно с регулярными петлюровскими войсками в Житомир вступил 22 марта отряд селян-повстанцев Черняховской вол[ости.] Речь идет об отряде, организованном в Черняхове по инициативе Соколовского. Воззвания об организации этого отряда носили погромный характер. В них говорилось, что в отряд должен записываться всякий, кто не хочет стать «жидовским наймитом». Воззвания печатались в Волынской губернской типографии. Когда волынскому губернскому комиссару был представлен экземпляр такого воззвания, он запросил зав. губернской типографией, кто дал разрешение на печатание этих воззваний, то тот ответил, что такого разрешения никто не давал, и что я полагал, что разрешения на печатание этих воззваний не требуется, так как оно исходит от военных властей. Во время пребывания в Житомире петлюровцев в земской типографии печатались еще более погромные воззвания. Тогда были прямые призывы «бить жидов». Экземпляры такого воззвания имеются в коллегии бывших членов Трудового конгресса. Отношение христиан к погрому было различно. Многие христиане спасли жизнь евреям. Но были случаи, когда люди даже сравнительно культурные не только отказывались пускать к себе в квартиру еврея из чувства страха, но с чувством удовлетворения наблюдали картину погрома, а когда к городу приближались большевики, агитировали за борьбу с жидами, произнося речи резко погромного характера. После погрома многие стали уверять, что происшедшее это в сущности не погром, а военные действия, так как в петлюровские войска будто стреляли из еврейских домов. В действительности же ничего подобного не было. Но характерно, что такого рода версии приходилось слушать даже от лица судебного ведомства. Ничего удивительного в этом, впрочем, нет, если иметь в виду, что председателем житомирского окружного суда является некто иной, как граф Паценко-Развадовский, подписавший знаменитый по делу Бейлиса акт (тогда он был товарищем прокурора). Антисемитское настроение, созданное в Житомире во время погрома, не улеглось еще до сих пор, Даже продовольственная помощь голодающим жертвам погрома не могла оказаться в первые дни после погрома открыто, и общественным деятелям-христианам пришлось создать для оказания помощи буквально умиравшим с голода в своих квартирах евреям полулегальную организацию. Для разбора дел о большевиках был образован в Житомире Чрезвычайный суд. По делам о большевиках занимался и политический отдел, а затем к их семьям являлись какие-то офицеры, выражавшие готовность освободить арестованных за деньги. Многие не решались не давать денег, опасаясь, что иначе арестованные будут расстреляны или на квартиру будет совершен налет. Находились ли эти офицеры в каком-нибудь соглашении с чинами политического отдела, пока не установлено. Но, во всяком случае, в политическом отделе пришлось выслушивать очень странные вещи. Например, одной просительнице завед]ующий] политическим отделом Трофименко, когда та отказалась сознаться, что ее брат будто бы служил в Чрезвычайке, чего в действительности не было, заметил: «Если бы вам всыпали 5 розог, то вы бы сознались».
Когда губернский комиссар получил от коллегии членов Трудового конгресса сведения, достоверность которых не подлежит сомнению, то он сам пришел в ужас, но сделать что-нибудь был бессилен, потому что фактически власть находилась в руках военных, среди которых имелись несомненные русские черносотенцы, примазавшиеся по тем или иным причинам к петлюровскому движению. Так, упомянутый полковник Петров, бывший в Житомире начальником гарнизона, говорил нескольким общественным деятелям: «До 1 марта 1917 г. я был верным слугой царя, но после 1 марта я понял, что заблуждаюсь, и стал социалистом». Таких новоявленных «социалистов» было среди военных, стоявших во главе власти в Житомире, немало…
Текст документа приведен по сборнику документов «Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918—1922 гг.», ответственные составители: Зюзина И.А., Милякова Л.Б. Подлинники документов хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. Р-1339. Оп. 2. Д. 17. Л. 86—92. Копия.)
№ 134
Сводка материалов Редакционной коллегии о погромах военнослужащими польской армии в мае-июне 1920 г. в Киевской губ.
Не ранее 16 июня 1920 г.
<…>
II. Погромы в Житомире, Чаповичах и Бердичеве
Погром в Житомире продолжался три дня кряду — 9-11 июня. После того как 7 июня ворвался отряд конницы Буденного и ушел назад, в городе были разграблены польские склады с вещами. Когда поляки на несколько дней вернулись обратно, они всю ответственность за расхишенные вещи взвалили на еврейское население. Начались повальные обыски в еврейских квартирах, поиски оружия, а в действительности — погром и грабеж. Польские солдаты говорили, что из еврейских домов в них стреляли во время отступления и что они получили приказ «резать жидов». Рассвирипевшие солдаты стали действительно убивать евреев. Они врывались в еврейские дома и уводили с собой как «коммунистов», угрожая расправиться с ними — и расправлялись. В результате несколько десятков евреев оказались убитыми. Один из очевидцев погрома, прибывший в Киев, сообщает, что ему лично пришлось видеть на еврейском кладбище 44 трупа убитых поляками евреев, причем многие были страшно изуродованы: отрублены ноги, пальцы, размозжены черепа, выколоты глаза. В городе насчитывается еще 13 жертв, всего убитых было 56 чел.
«Среди убитых, — сообщает этот свидетель, — не только не известны коммунисты, но большинство их составляют торговцы и еще старики 65-70-летние». По словам житомирских «Известий», во время налета поляков на квартиры арестованных, среди коих были и старики, отводили на Сенную площадь и на городские скотобойни и там их зверски пытали и убивали (см. «Известия Волынского] губернского] ревкомитета» от 18 июня 1920 г., а также киевские «Известия» и «Коммунист» от 25 июня 1920 г.). В киевском «Коммунисте» от 26 июня помешен список 43 евреев, убитых поляками во время житомирского погрома. Среди перечисленных, между прочим, указаны: Вайнштейн Аврум 50 лет — выколоты глаза и отрезаны суставы пальцев; Котвер Иосиф 41 г. — заживо погребен; Дерос Ицко 35 лет — заживо погребен; Вейцель Борух 55 лет — отрезан нос и выколот глаз; Народицкий Еина 50 лет — выколоты глаза; Фаинзильбер А. 60 лет, Зингер А. 40 лет — сожжен; Горенштейн Герш 76 лет — отрезаны уши, нос и отрублены пальцы; семилетний мальчик Борух — выколоты глаза. Таковы эти «коммунисты», которым поляки мстили за свое поражение.
В субботу с утра, 12 июня, поляки начали поджигать еврейские дома и квартиры. Громадный дом Конюховского, сплошь населенный евреями, был ими сожжен. Населенная евреями местность Отвых предана огню, причем там погибло 8 чел. И только бегство поляков из города к полудню в субботу, под натиском вновь вернувшейся конницы Буденного, спасло еврейское население Житомира от дальнейшей резни. Следует привести в заключение характерный для поляков штрих: упомянутый выше свидетель, беженец из Житомира, сообщает, что поляки хотели заставить житомирского казенного раввина выдать им удостоверение в том, что в городе погрома не было, а были поиски коммунистов и разграбленных из склада вещей. Несмотря, однако, на угрозы и на побои, поляки не могли в течение целого дня добиться от раввина такого свидетельства, и уехали без удостоверения…
<…>
С подлинным верно: И. Чериковер
Текст документа приведен по сборнику документов «Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918—1922 гг.», ответственные составители: Зюзина И.А., Милякова Л.Б. Подлинники документов хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. Р-1339. Оп. 1. Д. 424. Л. 93—101. Копии. Там же. Оп. 2. Д. 18. Л. 73—75. Копия.)
№ 138
Запись рассказа начальника городской милиции г. Житомира Волынской губ. И.В. Аббариуса о действиях польских воинских подразделений в городе с 9 по 12 июня 1920 г.
Позднее 12 июня 1920 г.
Набрасывая настоящие строки, должен прежде всего указать на то, что пишу, не имея под руками надлежащих материалов, отчасти уничтоженных, отчасти находящихся в местах, ныне мне недоступных. Ручаясь за точность передаваемых фактов, я могу несколько ошибиться в передаче последовательности событий.
Утром 9 июня, в момент вступления польских отрядов, я находился в помещении быв[шей] городской управы. Первые автомобили были переполнены жолнерами, державшими ружья наизготовку и зорко и тревожно оглядывавшими улицы, окна и крыши зданий. Все они проезжали вниз по Б[ольшой] Бердичевской ул., направляясь к зданию быв[шего] окружного суда на бульваре. Через короткое время пришел ко мне польский поручик и потребовал представителя городского магистрата к коменданту города капитану Шумскому. Кроме меня в управе был секретарь управы А.Б. Рабинович, которому я предложил отправиться вместе. Рабинович нашел достаточным одно мое присутствие, и я отправился сам с поручиком в здание быв. окружного суда. По дороге я впервые услышал отдельные выстрелы, и поручик сообщил совершенно неожиданное для меня обвинение граждан Житомира — евреев в том, что они обстреляли польские войска при отступлении их из Житомира. Надо было так близко знать настроения граждан Житомира и, в частности, еврейской части его во время пребывания польских войск в Житомире, как знал их я, для того чтобы представить себе всю степень моего изумления перед новым, свалившимся как снег на голову многострадального города, несчастием.
Назвавший себя комендантом города и начальником первого отряда капитан Шумский (человек с бритым женоподобным лицом и дряблою речью и такою же психикой), предъявил ко мне ряд требований по удовлетворению продовольственных нужд его отряда в 165 чел., просил сохранить в тайне указанную им цифру, сообщил, что к вечеру количество войск, вероятно, увеличится значительно, и затем стал обсуждать со мною проект предполагавшихся им к изданию приказов. Центр тяжести приказов сводился к предложению выдать к шести часам вечера для издания [основного] приказа все имеющееся у жителей оружие. Комментарием к этому приказу явилось устное заявление Шумского (если не ошибаюсь, старого житомирянина), что жители города — евреи стреляли по отступающим перед буденновским отрядом польским войскам и участвовали в избиении польских солдат, оставшихся в городе после отступления. Когда я указал на совершенное несоответствие утверждений Шумского действительности, Шумский сообщил, что он лично является свидетелем этих обвинений, что, командуя одним из отрядов, защищавших подступы к Бердичевскому мосту, он был обстрелян евреями с крыш военного госпиталя из двух пулеметов. К. этому он прибавил, что войска страшно раздражены и что нужно приложить все усилия к возможному удовлетворению их во всех отношениях для предотвращения возможных эксцессов.
Во время этих переговоров стрельба по городу все усиливалась. От отряда, стоявшего около комендатуры, отрывались одна за другой небольшие группы солдат, расходившиеся с ружьями наперевес в разные стороны. Слово «жид» все чаще и чаще повторялось командным и командуемым составом. С тяжелым предчувствием неминуемого грозящего городу нового ужаса и потрясения пошел я обратно в управу. Не успел я пройти Михайловской ул., как зазвучал частый пулеметный огонь, и я увидел, как проезжавший автомобиль обстреливал помещение казначейства, находящееся на углу Театральной и [Большой] Бердичевской улиц. Обстрел, как я немедленно выяснил, происходил лишь потому, что одно из окон учреждения оказалось открытым. В управе я застал весь состав членов ее и доложил о сделанных мною наблюдениях и о готовящемся военном погроме. Не успел я окончить своего доклада, как за мною снова явился поручик, вызывавший меня к коменданту, и просил указать помещение почты, телеграфа и телефона. Я пошел с поручиком. В нескольких шагах от управы к нам подошел сержант и заявил, что из дома № 11 по Б[ольшой] Чудновской ул. была обстреляна группа польских солдат и что там в настоящее время производится обыск. Я попросил поручика вместе со мною, пользуясь близостью д[ома] № 11 к почте, немедленно проверить правильность утверждений сержанта. В этот момент к нам подошла супруга городского головы г-жа Вороницына: «Иван Васильевич, — обратилась она ко мне, — на Б[ольшой] Чудновской только что на моих глазах ворвалась в дом группа польских солдат, стали стрелять, оттуда несутся крики о помощи». Я спросил ее, была ли она на месте происшествия в самом начале инцидента. Получив утвердительный ответ, я снова задал ей вопрос, не было ли произведено из дома каких-либо выстрелов перед этим. «Ничего подобного не было», — отвечала мадам Вороницына. «Видите, пан поручик, — обратился [я] к моему спутнику, — супруга нашего уважаемого головы — человек редкой, безукоризненной честности и прямо указывает на вздорность факта, кладущегося в основу начинающейся погромной агитации. Я еще раз категорически прошу вас вместе со мной немедленно на месте расследовать по горячим следам все происходящее и прекратить начинающееся бесчинство». Но молодой, весь улыбающийся, жизнерадостный поручик наотрез отказался последовать моему приглашению, отговариваясь спешностью данных ему поручений. Я возвратился в управу под грохот раздававшихся отовсюду выстрелов и предложил членам управы отправиться в комендатуру для того, чтобы установить немедленно контакт с командованием.
Это свидание с комендантом слабо сохранилось у меня в памяти. Видимо, было также бесцветно, как сам Шумский. Что-то говорилось о создании следственных комиссий с участием представителей от города для расследования случаев обстрела польских войск, сыпались по нашему адресу какие-то неопределенные обвинения, требовалось продовольствие. Я начинал терять интерес к разговорам, т.к. не чувствовал ни одной ноты искренности во всех словах капитана и видел в нем человека, который, по примеру всех прочих многочисленных завоевателей нашего бедного Житомира, будет лишь проходящей тенью и скоро исчезнет из нашего поля зрения. И тогда я еще не подозревал в нем актера, которому суждено было сыграть гнусную роль, может быть, единственного свидетеля из лиц командного состава, упорно утверждавшего перед лицом полковника Седлицкого и окружавшего его офицерства, о котором речь впереди, гнусную клевету об обстреле евреями командуемого им отряда во главе с ним самим. Впоследствии я от некоторых, невдалеке от Бердичевского моста живущих житомирян, слышал рассказ о том, как какой-то польский офицер (по описаниям весьма похожий на Шумского) во время налета буденновцев послал своих солдат, впоследствии изрубленных буденновцами, вперед от моста в поле. Сам же он под предлогом жажды спустился якобы под мост, незаметно скрылся с глаз своих солдат и ушел восвояси. Вечером того же дня я увиделся с Шумским во время следующей сцены: молодой жолнер стал перед капитаном, держа в руках пару башмаков, снятых с проходящего по улице еврея. Солдат говорил, что его собственные башмаки ему тесны, а еврейские как раз впору, и просил разрешения присвоить их. […] отвечал ему капитан (извиняюсь за плохой польский язык).
После свидания членов управы с Шумским я собрал свой маленький милицейский аппарат, поручил ему регистрировать и немедленно доносить мне о всех происходящих в городе насилиях, просил начальников районов по мере возможности предотвращать буйство солдат личным тактичным вмешательством. Желая сделать все возможное для усмирения гнева издевающихся над городом калифов на час, занялся вопросами, связанными с удовлетворением всех их требований (сколько раз я давал себе слово не идти по этой совершенно ложной и ни к чему не ведущей унизительной дороге) и прежде всего — вопросом о продовольствии отряда. По этим делам мне много приходилось ходить и ездить по разным концам города, и везде я был свидетелем многочисленных и жестоких избиений прикладом проводимых по улице арестованных, свидетелем добровольного наушничанья со стороны граждан города — этой язвы при всех переменах власти, из которых ни у одной не нашлось достаточно государственности для того, чтобы замкнуть уста негодяям доносчикам, удовлетворявшим чувства личной вражды на ни в чем неповинных гражданах. Ужаснее всего для меня было участие в этом совсем юных мальчиков гимназистов и страшнее всего наушничество евреев, доносивших на своих же единоверцев. Действительность последнего факта утверждаю совершенно категорически, ибо наблюдал его неоднократно и утверждаю, что одним из самых деятельных агентов, выдававших своих невинных единоверцев жестоко с ними расправлявшейся власти, был местный еврей. В управу, сделавшуюся моею штаб-квартирою, ко мне начали прибегать женщины, умоляя спасти их от налетов польских жолнеров, спасти их мужей, арестованных поляками. Между прочим, прибежал мой личный друг М.И. Усанович с просьбой пойти на место налета, происходящего около управы. По дороге я встретил двух офицеров и просил их помочь мне прекратить грабеж. Со страшным неудовольствием пошли со мною офицеры, и один из них обратился к моим спутникам со словами: «Вы, жиды, нас обстреливали, а теперь кричите, когдау вас отбирают какую-нибудь тряпку». Когда мы пришли на место, налет был уже окончен. К. вечеру этого дня я получил от начальников районов донесения о бесчисленных налетах на еврейские дома, об убийстве одного ребенка и одного взрослого во дворе Талмуд-Торы по Подольской ул. выстрелом в лоб. Сообщалось о случайном выстреле на Петроградской ул., произведенном польским офицером, ранившем одного из солдат. С первого же дня я стал замечать подчеркиваемое различие в отношениях войска к христианам и евреям. Старались показать, что всю вину за обстрел польских войск приписывают только евреям, отдельные фразы клонились к тому, чтобы уверить христианское население, что оно вполне гарантировано от всяких эксцессов. Эта тенденция росла по мере ослабевания положения польских войск и особенно резкой сделалась в момент перед окончательным отступлением. Стремление бережно относиться к общественному мнению христианского населения, между прочим, характерно выразилось в это время в записке, полученной мною от командира тылового отряда, требовавшего пищи для отряда, но с запрешением прибегать для добывания ее к реквизиции. Между тем в первый день в производстве реквизиций у евреев совсем не стеснялись и на моих глазах реквизировали фуру с мясом у проезжавшего мимо комендатуры мясника, если только можно назвать реквизицией безвозмездное отнятие мяса. Все это взятое вместе заставляет меня думать, что по крайней мере некоторые общие лозунги были даны сверху и что, если польское командование резко протестовало против утверждений об организации погрома сверху, мы имеем полное и безусловное право приписывать ему благосклоннейшее попустительство, протекавшее не без некоторых указаний со стороны правящих сил.
Заключая изложение событий этого первого дня, отмечу еще сразу появившуюся в местном населении тенденцию не принимать участия в погроме, производимом польскими войсками (вопреки печальному опыту всех предыдущих погромов). Видимо, даже худшие элементы местного населения чувствовали полную отчужденность к выступавшим в этот момент на позорную арену силам. Лишь в одном случае, происшедшем в ночь с 10 на 11 [июня] и окончательно мною не исследованном, можно предполагать выступление на сцену местных деятелей. Ночь с 9 на 10, как и все предыдущие, начиная от момента налета буденновцев, и последующие — до ночи с 11 на 12 июня включительно, я провел в управе, изредка выходя для наблюдений в город. По ночам улицы были совершенно мертвыми, электрическая станция не работала, нигде не было видно ни одного огня. Только кое-где виднелись группы милиционеров, боявшихся стоять на постах поодиночке и робко жавшихся друг к другу, да шныряли мрачные фигуры жолнеров, творивших темное дело.
К 11 часам ночи на 10 июня послышалась трескотня выезжавших автомобилей и песни солдат, по-видимому — значительного отряда. Через короткое время в управу пришел [солдат], потребовавший от меня лампу для коменданта и Мощинского и сообщивший мне о приезде коменданта этапа полк[овни-ка] Седлицкого. Последнему я очень обрадовался, так как знал Седлицкого как весьма гуманного, с государственными взглядами человека, и надеялся, что с приездом его удастся потушить разгоравшийся погром. Надежды мои, конечно, на этот раз обманули меня.
Следующий, второй день, — 10 июня начался с трагикомической сцены, разыгравшейся у склада Американского комитета помощи по Театральной ул. Вместе с членом управы Г.А. Шпильбергом пришлось мне его отстаивать от посягательств трех или четырех жолнеров и сержанта. Никакие уговоры и доказательства не действовали на грабителей до того момента, когда сержант заявил, что он человек образованный, говорящий на всех европейских языках, знает всю подноготную еврейских махинаций в Житомире. Я начал уговаривать моего собеседника на французском языке, получив в ответ неопределенное мычание, перешел на немецкий и, к моей радости, собеседник ответил мне несколько слов на ломанном немецком и, показав своим товарищам свою образованность, сразу размяк и ушел, не произведя дальнейших бесчинств. Немедленно после этого мною был приставлен к складу вооруженный милиционер-часовой, и склад оставался в целости до новой смены власти. Покончив с этим, я отправился к Седлицкому и увидел, что и он сделался совершенно иным. Он начал разговор со мною обвинением евреев нашего города в обстреле отступавших войск, в издевательствах и убийстве оставшихся в городе польских солдат. На мои возражения и указания на полную бездоказанность всех этих обвинений Седлицкий сказал: «Я не поверил бы простому жолнеру, но капитан Шумский, в справедливости слов которого как дворянина и офицера всякое подозрение должно быть исключено, лично был обстрелян жителями Житомира — евреями». Мне страшно хотелось сказать ему: «Полковник, неужели вы не видите, что вся эта легенда об обстреле изображена трусами, бежавшими в составе значительного гарнизона от трех-четырехсот кавалеристов буденновцев, справиться с которыми при малейшем мужестве ничего не стоило бы для отлично снаряженной пехоты». Но, увы, в числе бежавших в памятный день наступления буденновцев был и сам мой собеседник, и мое возражение было поэтому исключено. Я ограничился тем, что просил его принять моих товарищей по управе, на что и получил согласие. Через час городской голова И.П. Вороницын, председатель Думы В.Н. Добринский, член управы К.И. Новиков и я шли к коменданту этапа, встретив по дороге сцены дикого насилия вооруженных солдат над безоружными гражданами. В комендатуре мы снова встретились с Шумским, засыпавшим меня требованиями на подводы, на пищу для значительно увеличившегося отряда (кажется, на 35 чел.) и, наконец, были приняты полковником. Последний начал разговор с обвинений житомирян в обстреле войск. На все указания на вздорность [этого обвинения] ссылался как на каменную гору на свидетельство капитана Шумского. Постепенно тон разговора, который главнейшим образом вел В.Н. Добринский, начал повышаться, начинали сльнпаться упреки управе в неблагонадежности, в том, что она от всякой власти стремится извлечь выгоду в свою личную пользу. Ничего не помогли указания на тот тяжкий крест, который управа в нынешнем составе ее несет уже третий год, повинуясь единственно сознанию общественного долга, подвергаясь многочисленным ударам разбушевавшейся исторической стихии. «Мы пришли сюда с тем, чтобы избавить вас от ига большевиков, а вы заплатили нам за это пулею в спину». «Вот уже третий год уже двадцать пятая власть приходит к нам, — возразил ему остроумно В.Н. Добринский, — с тем, чтобы спасать нас. Одни спасают нас от большевиков, другие от поляков, третьи от Петлюры, и при этом все нас жестоко бьют. Мы же молили судьбу об одном — чтобы нас покинули все наши спасители и предоставили бы нам спасаться нашими собственными силами». «Следовательно, вы мечтаете о Житомирской республике?» «Если хотите, да, — отвечал В.Н. Добринский. — Но это не государственная точка зрения. Это точка зрения нашего голодного желудка, наших истерзанных нервов. Посмотрите, мы наги и босы, наши дети толодны, весь город бесконечно измучен, и в настоящее время во всех концах: его идут жестокие бесчинства, производимые лицами в мундирах польских солдат над безоружным населением». Седлицкий сделал.вид, будто он:очень удивлен тем, что услышал. Эта манера не верить происходящему погрому осталась у него до конца, до последней минуты. Когда число зверски расстрелянных и изувеченных невиннейших жертв достигало многих десятков, он все еще не верил происходившему и требовал от меня доказательств. Он указал, что действительно войска страшно раздражены, что город должен [приложить] все усилия к тому, чтобы успокоить их, что командный состав каждую минуту может потерять всяческую власть над солдатами. На этом прервались разговоры, и мы ушли от Седлицкого под шум разговоров офицеров о готовящейся карательной экспедиции на м. Левков.
В управе я занялся своим крохоборством с отдельными налетами, выслушивал тысячи жалоб на налеты, грабежи, насилия, аресты, сознавал всю свою беспомощность. От начальника 2-го р-на Вишневского я получил донесение о том, что 18 чел. жителей его района, в том числе весьма состоятельные, Котик и Вайнштейн, арестованы и расстреливаются на Сенной площади залпами польских войск. Стали прибегать многочисленные свидетели зверских истязаний арестованных по дороге к месту казни. Их заставляли бежать впереди быстро мчавшихся лошадей, подгоняя сабельными ударами и револьверными выстрелами. К часу дня за мною прислал вновь назначенный комендант города Гайнич. С чувством глубочайшего омерзения смотрел я на ломавшуюся передо мною фигуру издерганного неврастеника, старавшегося уверить меня, что он, Гайнич, один только либерал, социалист среди прочей «сволочи» (подлинное выражение), что он один из всех сочувствует городу, что для него нет разницы между евреями и христианами. Но для того, чтобы спасти город от вышедших из повиновения солдат, необходимо немедленно сдать все имеющееся в городе оружие. Только это успокоит солдат. Все это говорилось в весьма высокомерном тоне и напыщенных выражениях. Я сказал Гайничу, что оружия в городе нет, и нет его у евреев. «Не кажется ли Вам, пан Гайнич, что если бы даже где-нибудь и нашлось это оружие и было к Вам принесено, то это послужит лишь новым для солдат аргументом в пользу слухов об обстреле житомирянами отступающих войск?» Гайнич бесполезно развел руками, и я распростился с ним. Переходя через залу быв. второго гражданского отделения (дело происходило в окружном суде), служившую вестибюлем к кабинету коменданта, я увидел много арестованных евреев, в том числе гр. Аннопольского, жена которого особенно тяжело переживала арест своего мужа, и глубочайшего старика, местного раввина Угера.
Часа через два я и городской голова получили приглашение явиться к коменданту на заседание по важным вопросам. Под плач и стон громилов города, под трескотню отовсюду несущихся выстрелов поплелись мы на заседание, сознавая всю бесполезность его. Мы были немедленно приглашены в кабинет, и здесь перед нами разыгралась следующая сцена: двое солдат привели страшно избитого еврея, жителя Мало-Бердичевской ул., и принесли крохотную пустую оболочку гранаты. Наконечника в ней не было, вместо него в углубление был накапан парафин, и торчала парафиновая свечка. С победоносным видом поставили жолнеры несчастного окровавленного старика около стола и грозное вешественное доказательство положили на стол. Бедняга арестованный начал рассказывать свои злоключения, под конец расплакался и неожиданно для присутствующих подошел к коменданту, поцеловал его в голову и стал умолять о защите. Комендант приказал жолнерам идти во внутреннее помещение комендатуры к товарищам, которых кормили и развлекали местные дамы. Но солдатам свободный разгул в городе был, видимо, милее, и они убежали от коменданта, несмотря на все его крики. Последовавшее заседание, на котором присутствовал старик раввин, ничего не понимавший от старости, и группа до смерти испуганных дрожащих евреев, было посвящено комендантом разговорам.о необходимости выдать оружие и уплатить контрибуцию, размеров которой не помню. На наши указания на необходимость немедленно прекратить происходящий жестокий расстрел наших сограждан, наказать убийц и грабителей, Гайнич только беспомощно разводил руками, ссылаясь на возбуждение войск.
По возвращении в управу я занялся редактированием официального рапорта коменданту этапа о всех зарегистрированных милицией случаях многочисленных грабежей, убийств, насилий и проч., а в скором времени, когда стемнело, ликвидацией мелких инцидентов, шантажей, вымогательств и проч., из которых одно крупное, происшедшее в 1-м р-не милиции, было, видимо, произведено местными деятелями.
Что мне рассказать о событиях третьего дня, в начале которого погром развивался с неудержимою силою и принимал чрезвычайно жестокий характер? Как передать мне до ужаса, до боли нараставшее чувство позорного бессилия при вести о свирепых истязаниях и расстрелах сограждан, чувство слишком знакомое по печальному опыту прежних погромов и расстрелов? Много прошло их на житомирском горизонте — властителей, реформаторов, устроителей новой жизни, и каждый начинал с того, что вносил в наши ряды смерть, и после каждого мы недосчитывались тех или иных сограждан. И как все, в сущности, они похожи друг на друга, по основной черте своей психики, звериной радости освобождения от уз законности, по своей кровожадности, трусости, по стремлению идти по пути наименьшего сопротивления. Районы с механической точностью сообщали мне о производимых на их территории арестах, 2-й р-н сообщал мне о количестве расстрелянных. Около 11 часов дня комендатура прислала в мое распоряжение отряд из 15 чел. жолнеров. Но с ними повторилась история слишком хорошо знакомая мне по опыту прежних погромов, когда в мое распоряжение также отпускались отряды из школы пiдстаршiн и проч. При вызовах на налет жолнеры шли крайне неохотно, долго перед тем как отправиться рассуждали о всяких, мало к делу относящихся вещах, и, наконец, когда прибывали на место, моей главной задачей было — надзор за моими жолнерами, требовавшийся во всех отношениях. Вероятно, к часу дня собралось в кабинете городского головы небольшое собрание общественных деятелей. Во время совещания в кабинет вошли 2 представительницы местного общества — одна из них м[ада]м […] — и просили свидания с Я.А. Шпильбергом (последний находился тут же) и обратились к нему с предложением предоставить в распоряжение дамского комитета при комендатуре, заботящегося о прокормлении и развлечении солдат, муку и другие пищевые продукты. «Вы обращаетесь ко мне, к еврею, — ответил ей Я.А. Шпильберг, — вы просите еврея дать муки польским солдатам. Но разве вам не известно, что в настоящее время в городе идет жесточайший погром, что евреев, моих единоверцев, расстреливают десятками и перед расстрелом издеваются над ними, избивая их, обрубая им носы, отрывая щеки и проч. Или вы ни за что считаете чувства еврея, на глазах у которого убивают его соплеменника, или к еврею всегда, при всех обстоятельствах можно обращаться с одним лишь словом — дай?» «О каком погроме Вы говорите? — с наивным видом возразила дама. — Впервые о нем слышу и думаю, что все это одни выдумки». На такую благоглупость осталось только развести руками, и дамы ушли из кабинета, не получив положительного ответа. Тем не менее совещавшиеся в кабинете решили пойти навстречу просьбе дамского комитета. Были немедленно мобилизованы некоторые средства, отправлены в поиски за мукою несколько чел. евреев, снабженных надлежащими свидетельствами, и через короткое время двое из них прибежали в управу в истерзанном виде, заявляя, что они только что были ограблены и избиты поляками. Вслед за одним из них в самый кабинет ворвался молодой поляк и присутствовавшим с трудом удалось вырвать человека из рук рассвирепевшего негодяя. Сцена перенеслась на улицу. Здесь один из ограбленных и избитых добывателей муки узнал в проходившем жолнере только что ограбившего его хулигана. С помощью находившихся при управе жолнеров я арестовал его и, выяснив его личность и часть, которой он принадлежал, отправился с ним в комендатуру. Т.к. коменданта не было, я передал его в распоряжение капитана Шумского с объяснением обстоятельств дела. Но Шумский, пожав плечами, немедленно отпустил его на волю, несмотря на мои объяснения, что задержанный мною негодяй отнял несколько тысяч карбованцев у человека, покупавшего муку для польских солдат, и вдобавок избил его.
Не успел я вернуться в управу, как меня и городского голову потребовали к коменданту этапа. Здесь объяснения приняли сразу горячий характер. Полковник Седлицкий начал кричать на нас, говоря, что мы оскорбили даму, пришедшую просить пожертвование для дамского комитета, и потребовал объяснений по поводу того, что в управе были допущены слова о погроме, производящемся польскими войсками. И.П. Вороницын спокойно подтвердил факт наличности происходящего в широких размерах погрома и убийства десятков граждан. «Вы головой Вашей ответите за Ваши слова, — закричал разъяренный Седлицкий. — Вы понимаете ли, что под погромами разумеются организованные командованием грабежи и убийства, и о каких расстрелах вы позволяете себе говорить?» В это время я молча подал ему официальный рапорт на польском языке обо всем происходящем в городе. «Извольте представить его мне оформленным», — сказал Седлицкий, наскоро пробежав его. «Мне кажется господин полковник, что рапорт составлен по всем правилам канцелярского искусства за моею подписью, с бланком и печатью». Ничего не сказав больше, Седлицкий возвратил мне рапорт, и мы расстались. Когда я пришел в управу, я нашел там требования комендатуры на заготовку 12 гробов и требование подвод на вокзал. Пока я толковал с гробовщиками о гробах, по городу пронеслась грандиозная волна автомобилей с беглецами из Киева. Солдаты, жены, дети сидели в нагруженных скарбом автомобилях, все испуганные, растерянные, потерявшие обычный гонор. Я поспешил в комендатуру. Здесь для меня сразу стало ясным, что говорить больше не с кем и не о чем, что часы и минуты пребывания поляков в Житомире сочтены.
Текст документов приведен по сборнику документов «Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918—1922 гг.», ответственные составители: Зюзина И.А., Милякова Л.Б. Подлинники документов хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. Р-1339. Оп. 2. Д. 17. Л. 7—11 об. Копия.)
Запись рассказа городского головы г. Житомира Волынской губ. И.П. Вороницына о погромах польскими воинскими частями в городе в июне 1920 г.
Позднее 12 июня 1920 г.
Польские дни в Житомире
Все время пребывания поляков в Житомире можно разделить на два периода: первый период, когда поляки старались вести себя джентльменами, и второй, когда они старались доказать, что джентльменство — элементарной порядочности они на своих штыках не принесли. Второй период продолжался всего пару дней, но в нас, русских общественных деятелях, он создал убеждение, что и польская армия, подобно петлюровской, как небо от земли, далека от того «рыцарства», носительницей которого она себя прокламировала в своих печатных воззваниях и в речах своих наиболее видных представителей. Я говорю, что в первый период они старались доказать свой европеизм. Но мне, как общественному деятелю, как журналисту, редактору местной русской газеты, с первых же шагов пришлось столкнуться с их истинной натурой. Правда, мы, прежняя городская управа, орган демократической думы, были с первого же дня приглашены начальником группы войск генералом Рыдзем-Смиглым к возобновлению нашей деятельности, причем к каждому из нас без различия национальности генерал этот обратился с персональным письмом. Но первые же шаги наши стали смело направляться не к исполнению нашей прямой задачи — самоуправлению города, а удовлетворению бесчисленных и бесконечных требований и претензий польской власти. Нас буквально вынуждали лакействовать: городская управа должна была доставлять извозчиков для польских офицеров, покупать материю для украшения занятых поляками зданий и т.д. От поляков не отставала и появившаяся вскоре по их прибытии украинская власть, умело подражавшая всем панским замашкам, и если бы поляки, а вместе с ними и украинцы, продержались несколько дольше, дело, конечно, дошло бы до открытого конфликта городского самоуправления с ними. В качестве редактора газеты мне также сразу же пришлось столкнуться с антидемократизмом поляков. Они, правда, были более легкими цензорами, чем украинцы (польская цензура существовала параллельно с украинской), но это можно объяснить только исключительным, не в меру усердным рвением цензоров украинских, до поляков стремившихся стерилизовать гранки газеты. Но зато они нас запугивали непрерывно, угрожая всякими карами за все антипольское, что могло проскользнуть вопреки польской цензуре, и требовали, чтобы мы печатали инспирируемые ими ложные или ложно истолковываемые ими сообщения, чего мы, конечно, не делали.
Юдофобство поляков сказалось тоже очень скоро, чуть ли ни с первого дня. Польская солдатня предпочитала избирать еврейские лавчонки для «покупок» по произвольно устанавливаемым ими самими низким ценам. Было зарегистрировано несколько грабежей. Но главным образом юдофобство это сказывалось в обрезании или просто обрывании бород у стариков евреев. Когда мне, в качестве исполнявшего обязанности городского головы, вместе с председателем думы В.Н. Добринским и начальником милиции И.В. Оббарусом, пришлось вести об этом беседу с начальником этапа полк[овником] Седлицким и комендантом города капитаном (фамилию я его забыл), они пытались отделаться шутками. Так, один из них заявил:
— Наши познанцы режут жидам бороды, а не головы, другие поступили бы иначе.
— Стоит ли обращать внимание на такие пустяки.
Когда же мы стали настаивать на недопустимости таких явлений, они изменили тон.
— Конечно, такие выходки недопустимы, и мы потворствовать им не будем. Но какие же мы можем принять меры? Вот если вы сообщите нам, что такой-то Юзеф обрезал бороду у такого-то Мордки, тогда мы этого жолнера накажем.
Разговор так и остался бесплодным в смысле прекращения солдатских бесчинств. Представитель гражданской польской власти, быв. гласный житомирской думы либеральный адвокат, член комиссии по расследованию погромов, устроенных петлюровцами, Скоковский высказывал достаточно откровенно свое юдофобство, которого раньше мы в нем не подозревали. Это юдофобство, по-видимому, было обязательным для всех носителей польской власти. Скоковский был наиболее высоким ее представителем, как по своему образованию, так и по занимаемой им должности: он был «застемпцем воеводы земли Волынской и фронту Подольского», т.е. вроде помошника генерал-губернатора. Остальные более мелкие чиновники, как приезжавшие из Польши, так и служившие в возглавляемой Скоковским «экспозитуре», были откровенными погромщиками в своих разговорах, резко отличаясь от военных властей, до полной откровенности никогда не доходивших.
По-видимому, под влиянием польских властей в значительной мере, украинский губернский комиссариат принялся за чистку милиции от еврейского элемента. По крайней мере, губернский комиссар говорил мне, что этого от него требовали поляки. В самое короткое время милиция была очищена от евреев, поступивших в нее в те дни, когда она находилась в подчинении городской управы. Таков был первый период пребывания поляков в Житомире.
Неожиданный для поляков налет конницы Буденного заставил их поспешно бежать, оставив в Житомире массу ценного имущества. Возвратились они озлобленные, готовые обвинять в своем поражении кого угодно, только не себя. И обвинения посыпались на евреев исключительно. С первого же момента собственно и начался погром. 9-го числа было сообщено в городскую управу о нескольких убийствах евреев. В этот день поляков в городе было мало (они прибыли всего на трех грузовиках), и они боялись особенно распыляться. Они ходили партиями преимущественно по главным улицам и грабили, избивали и арестовывали евреев, попадавшихся им на встречу. С той же целью они врывались в квартиру под предлогом производимых в них выстрелов из окон.
Конечно, в них из окон никто не стрелял. Не было доказано ни одного такого случая. Все заявления поляков в этом роде были совершенно голословными. И наоборот, от совершенно беспристрастных свидетелей я знаю, что поляки сами производили выстрелы на улице, во дворе, а затем врывались в квартиры, где избивали, грабили и арестовывали.
Через несколько часов по прибытии поляков в город я был у начальника этого отряда. В то время об убийствах нам ничего еще не было известно, знали мы только о грабежах, арестах, обстреле домов, но мы знали уже, что солдаты сами дают провокаторские выстрелы. Об этом мы и стали говорить с начальником отряда и с его адъютантом. Все наши заявления и доказательства натолкнулись на неопределенную стену предубеждения.
— Евреи стреляют из окон.
— Честное слово офицера, что, когда мы отступали из Житомира, евреи нам стреляли в спину из винтовок и пулеметов. Когда мы отступали по Бердическому шоссе, я сам видел, что возле больницы стреляющие в нас люди [были] в вольных костюмах, а из самой больницы в нас стреляли из пулемета.
Наши заявления, что если и стреляли, то это стреляли вступившие в город буденновцы, двигавшиеся тремя колоннами, одна из которых действительно вела перестрелку на Бердическом шоссе с поляками, оставались напрасными. Польские офицеры стояли на своем, приводя факты один противоречащий другому. Так, адъютант между прочим заявил, что он только что обнаружил на чердаке дома на Михайловской ул. пулеметное гнездо. Номера дома он не сказал, и мы не могли проверить, действителен ли этот факт и, если действителен, то не следы ли это былых уличных боев петлюровцев с немцами. Но в верхнем этаже этого дома он никого не нашел — там никто не жил. Тот же адъютант заявил:
— Понятно, что солдаты врываются в квартиры, они разыскивают награбленное у них же.
В результате наших переговоров поляки пошли на уступки и было условленно, что во избежание продолжения происходящих расправ, будет организована комиссия в составе представителей от польской военной власти, от управы и от обществ украинского и еврейского, которая будет рассматривать и обследовать все случаи выступления против польских войск. Комендант при нас отдал приказ о том, чтобы нам письменно было предложено образовать такую комиссию. Но этого предложения мы так и не получили, они только отмахнулись таким способом.
Ночью к полякам прибыли подкрепления. В управление городом вступил наш знакомый по первому периоду полковник Седльницкий, комендантом города был назначен майор Ганич.
Седльницкий нам обещал, что к вечеру все прекратится. Однако и он твердо отстаивал легенду о том, что евреи стреляют из окон в солдат. Он даже рассказывал весьма сбивчиво, что когда они въезжали в город ночью, по ним стали стрелять, и он уже хотел отдать приказ открыть огонь, когда обнаружилось, что в доме, из которого в них стреляли, находились свои же поляки. Выходило, что евреи пробрались в среду поляков и выстрелили, чтобы вызвать столкновение с новоприбывшими. Он же нам стал рассказывать легенду о том, что евреи выстрелом ранили в руку одного офицера. На наше заявление, что офицер этот ранен своими же, в чем ранивший его нечаянно товарищ публично признался, он не сумел ничего ответить.
К вечеру этого дня нам стали известны случаи убийств. Вместе с И.В. Оббариусом я пошел к Ганичу, у которого оказалось на это время было созвано совещание из представителей русских (присутствовал священник Бурчак), Абрамович (духовный раввин), Бравер, Рабинович и еще кто-то. Ганич согласился с нами, что происходящее в городе есть ничто иное как еврейский погром. Выражал самое глубокое сожаление и возмущение. Говорил, что это позор для польской армии, что он в ней больше служить не хочет и подаст в отставку, и при нас он тут же продиктовал приказ о том, что все солдаты, прибывающие в город и находящиеся в нем, должны собраться в окружном суде, и другой приказ о том, что в городе должны быть только офицерские патрули, которые будут наблюдать за сохранением порядка и сгтонять всех солдат в комендатуру. Но эти приказы, как мне достоверно известно, напечатаны и опубликованы не были, и о них знали только сам Ганич, его писарь и мы. Во время этих разговоров и писания приказа два польских солдата привели к Ганичу окровавленного старика-еврея, местного домовладельца, с заявлением, что он в них бросил бомбу, что они произвели у него обыск и нашли еще вторую бомбу. Эту вторую бомбу я взял в руки и показал Ганичу, что это только оболочка, служившая подсвечником, что доказывают еще оставшиеся на ней капли воска. Для примера солдаты были арестованы, еврей же отпущен. Конечно, отпушены были и солдаты-бандиты. Ганич несколько раз задавал вопрос:
— Что же делать? Что же мне делать?
Я ему заявил, что необходимо принять чрезвычайные военные меры. Другого выхода, кроме применения к погромщикам самых жестоких репрессий, нет. Он с этим соглашался, но было видно, что подобная тактика в их план совершенно не входит. Вообще все разговоры этого Ганича произвели на меня впечатление полной неискренности. Он с иезуитской ловкостью играл наперед подсказанную ему роль. Это особенно ясно стало, когда он перешел к самому предмету совещания.
— Мы, мол, сделали все от нас зависящее. Но вы понимаете, что солдаты озлоблены. Их нужно умилостивить. Вы должны нам помочь. Скажите вашей молодежи, — обратился он к еврейским представителям, — чтобы она принесла оружие. Пусть солдаты видят, что оружие сносится. Ну, хоть немного. Затем нужно угостить солдат, накормить их. Соберите у населения подарки солдатам.
От имени управы я заявил, что у населения после пережитых переворотов ничего нет, что оно голодает. Оружия также нет, а если кто-нибудь и захотел бы принести [оружие] «для успокоения солдат», то это настолько опасно, что лишь сумасшедший появится на улице с оружием. На этом наш разговор прекратился. На другой день выяснилось, что еще накануне к вечеру, т.е. 10 августа, число убийств увеличилось, что погром разрастается. Сводка донесений начальников районов милиции сообщала, что в тот день, т.е. 10-го, в город вступила кавалерийская часть (что за часть, кто ей командовал — нам выяснить не удалось), которая расположилась в районе Сенной площади. Разъезды этой части хватали всех евреев, попадавшихся им на улицах и в квартирах, уводили их к Сенной площади и там расстреливали.
Мы решили в последний раз обратиться к военной власти. Перед нами уже стоял вопрос о сложении с себя полномочий.
Я и начальник городской охраны Оббариус отправились в окружной суд.
Перед этим в здании управы разыгралась характерная сценка. Какая-то полька пришла в управу с заявлением в письменной форме, написанным по-польски и подписанным комендантом Ганичем к Шпильбергу — члену управы, немедленно представить в распоряжение «колу полек» целого ряда продуктов: муки, сала, мяса и т.д.
Полька эта выслушала от нас несколько горьких истин, вроде того, что польские солдаты учиняют над евреями погром и имеют бесстыдство требовать от еврея подкрепления для своих злодейств.
— Никакого погрома нет, — заявила полька.
Когда мы с Оббариусом после долгих настояний добились, наконец, приема у Седльницкого, он обрушился на меня с угрозами.
— Я вас прикажу арестовать. Никакого погрома нет. Это провокация против польских войск. Я ему ответил, что погром есть, что он может делать со мной что угодно, но я всегда буду заявлять, что поляки погром произвели.
Последовал обмен резкостями. Полковник потребовал от меня фактов. Тогда И.В. Оббариус подал ему сводку милиции, в которой перечислялись случаи убийств. Не дочитав ее до конца, он крикнул: «Это надо оформить». И затем добавил: «Теперь мне некогда», — повернулся и ушел, оставив нас одних. Мы все-таки решили добиться каких-нибудь результатов и остались ждать. К нам присоединились член управы К.П. Новиков и гласный думы доктор П.О. Карант, пришедшие с сообщениями о новых насилиях. Вся наша настойчивость осталась безрезультатной, с нами отказывались говорить. Утром 12-го окружной суд уже опустел. Власти поспешно выехали еще ночью. В городе остались небольшие силы, которые запятнали себя новыми зверствами. Был подожжен и сгорел дом на Кафедральной ул., с которого опять якобы стреляли в поляков. В спасавшихся из этого дома стреляли. Здесь опять были жертвы. Так бесславно окончились польские дни в Житомире. На еврейском кладбище было похоронено более 40 жертв польского «рыцарства»: безоружных беззащитных людей, среди которых были и старики, и дети.
Точных цифровых данных я дать не могу, так как не имел возможности производить расследования. Я ограничился лишь передачей личных своих наблюдений.
Ко всему сказанному нужно добавить еще следующее: население широкого участия в погроме не принимало. Были случаи наводки солдат на тот или другой дом. Указывалось то или другое лицо. Но если по отношению к местным полякам нельзя отнести упрека в соучастии прямом, то зато попустительство я констатирую. Ни один поляк не поднял голоса протеста против совершавшегося. Ни ксендзы, ни представительницы польской дамской благотворительности не приходили к нам в городскую управу. Но зато там, в очаге погрома, где непрерывно раздавались крики истязуемых, арестованных, ими кишмя кишело. Погромщиков они кормили, за погромщиками ухаживали. Конечно, огромное большинство сидело дома.
Погром происходил с ведома и соизволения польского командования. К прекращению погрома не было принято ни одной меры. Убийствами на Сенной площади руководили офицеры. Можно поэтому с полным правом сказать, что погром с 9 по 12 был произведен польской армией.
И.Вороницын
С подлинным верно: Р. Крамер
Текст документов приведен по сборнику документов «Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918—1922 гг.», ответственные составители: Зюзина И.А., Милякова Л.Б. Подлинники документов хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. Р-1339. Оп. 1. Д. 418. Л. 86—87 об. Заверенная копия.)
Из статьи: Дундин С. Погромы: не хочется вспоминать, но приходится // Иностранец. 2002. № 21 (426). С. 41–43.
Протокол № 48
опроса Кац Фени Абрамовны и Пончика Лейбы Давидовича, живущ. в Житомире по Екатерининск. ул., д. 66, кв. 3. (1919, сентябрь).
28 июля с. г. с 9 час. стали нас посещать казаки и грабить. Ночью нас посетили 13 раз. Одна из шаек грабителей бросила моего мужа на пол, стала топтать и бить его нагайками. Приказали сыну нашему принести веревку, чтобы повесить отца… В грабежах принимали участие и местные – «занасыпские» и «с гор». Особенно отличались мальчишки, указывавшие грабителям местонахождение «жидов». Во время моего отсутствия жена моя была изнасилована 4-мя злодеями, только 5-й из них был тронут ее просьбами и оставил ее в покое. Все они были пьяные, едва держались на ногах. После этой банды явилась другая, и моя жена была изнасилована еще 2-мя казаками.
Протокол № 71
опроса Майзель Зины Вульфовны, живущ. в Житомире по Екатерининской ул., д. 66, кв. 1 (1919 г., сентября 23 дня).
28 июля сего года в 11 часов утра к нам в дом ворвалась целая ватага казаков, вооруженных с головы до ног, с криками – «Долой коммунистов!», «Бей жидов, спасай Россию!», «Все мы несчастные из—за вас погибаем!», «Эх, проклятый Троцкий!», «Будете вы нам комиссарами!» и т. п. словами. Потребовали контрибуцию с каждого члена семьи по 1.000 руб. и по 1.500 руб., угрожая при этом винтовками и револьверами. Им уплатили требуемые деньги. В 3 часа дня в наш дом ворвалась новая банда с криками – «Давай женщин!». Мне удалось убежать из дому. Мать же моя осталась в доме, приготовила им обед, накормила и напоила их. К вечеру мы все оставили дом, который был разграблен казаками, женщинами «с гор» и даже маленькими русскими девочками.
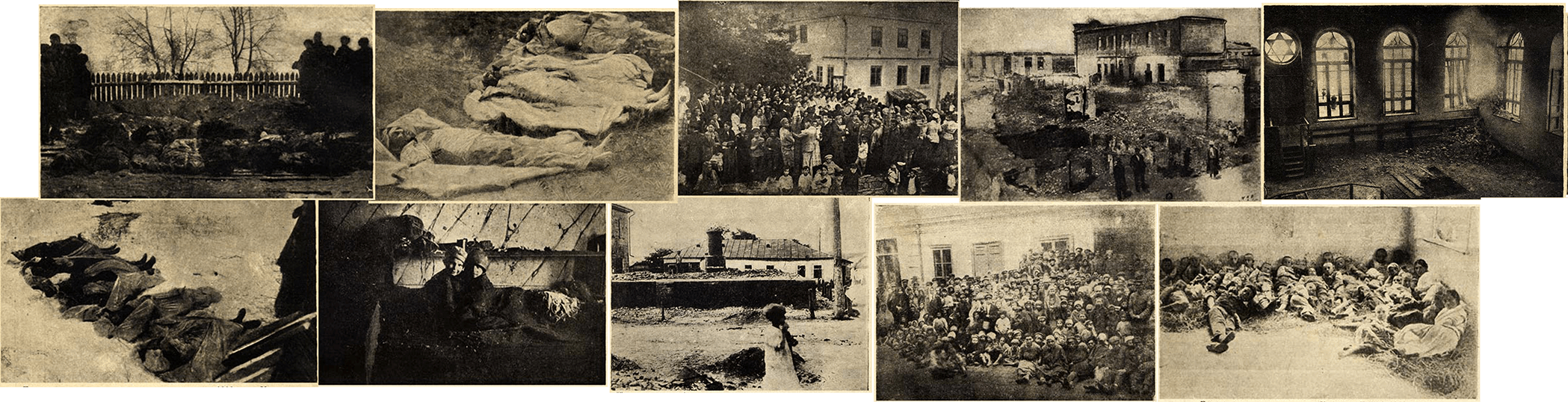
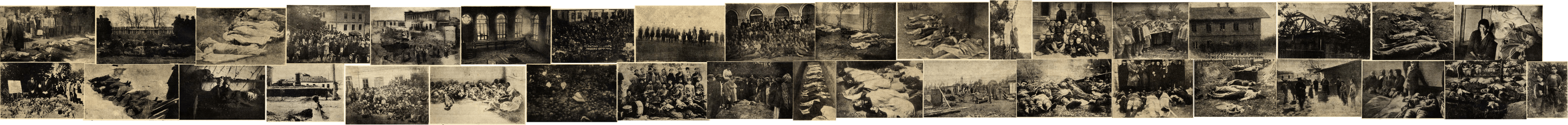
Жертвы
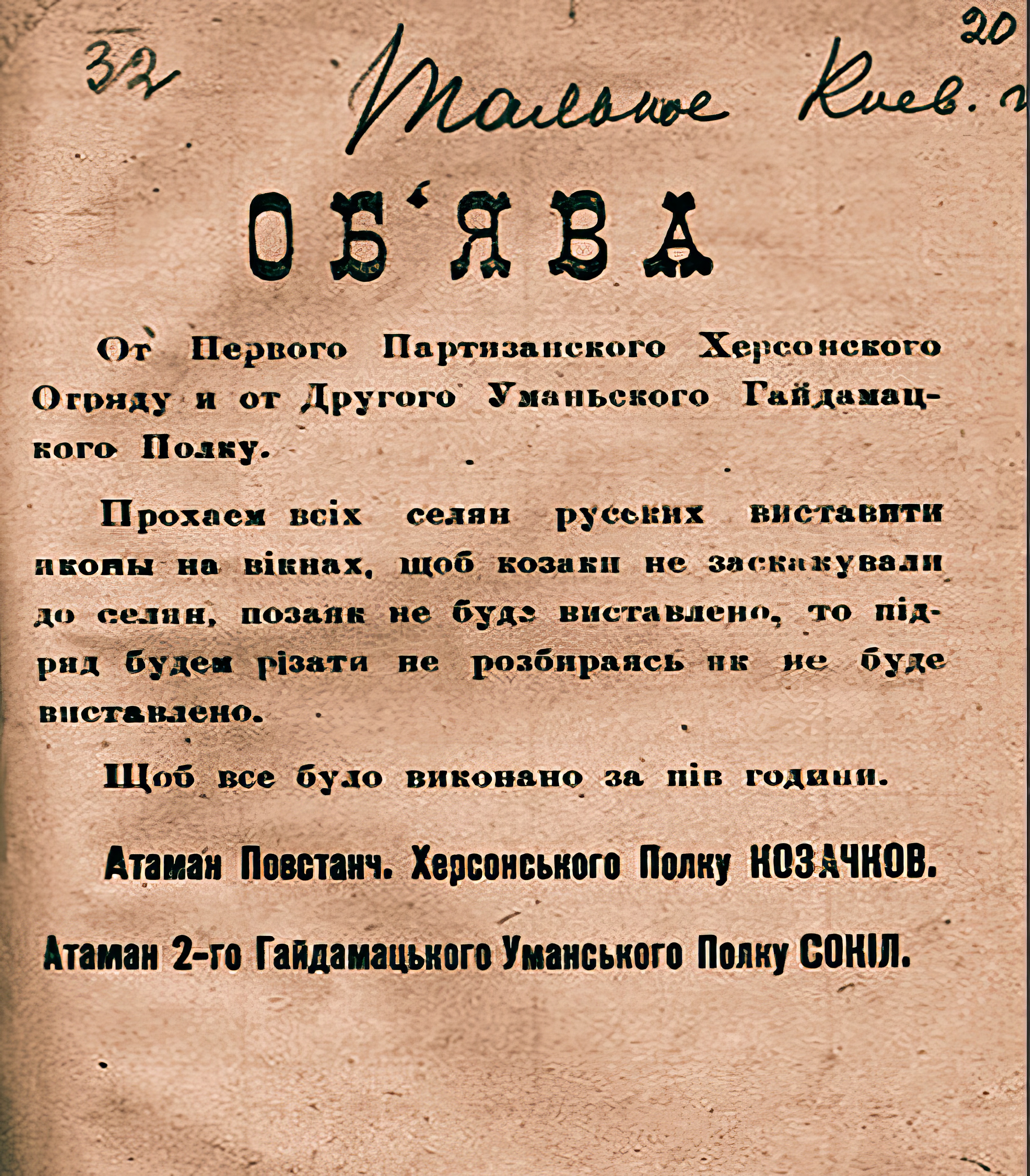
Палачи
Александр\nПалиенко
Александр\nПалиенко
Александр Палиенко (1890 – ?) — атаман, командир Особого Ударного корпуса войск Директории. По воспоминаниям современников, отличался грубостью, невежеством и склонностью к пьянству, однако был исполнительным и прямолинейным. В январе 1919 года во главе своего корпуса участвовал в наступлении армии УНР на Волынь и Подолье. Палиенко открыто обвинял представителей еврейских общин в поддержке большевизма. Под его руководством солдаты совершили масштабные погромы в Бердичеве и Житомире.
Сам атаман в частных разговорах оправдывал свои действия словами: «Украина окружена со всех сторон врагами. Таковыми являются Антанта, Дон, Кубань, поляки, румыны, великороссы, жиды, большевики. Все жиды – большевики. Я прислан сюда покарать Житомир, Бердичев, и уже покарал».
Когда о погромах стало известно руководству Директории, Палиенко был отозван с поста командира Особого Ударного корпуса. Вскоре он бежал в Ровно, опасаясь судебного преследования, где и был задержан. Однако спустя несколько недель его вновь видели в гостинице «Савой» в Виннице. Считалось, что Палиенко покровительствовали влиятельные деятели правительства Петлюры: в частности, Михаил Ковенко называл его «гордостью украинской армии». Дальнейшая судьба неизвестна.
Источники:
-
Veidlinger, Jeffrey (2021). In the Midst of Civilized Europe. The Pogroms of 1918–1921 and the Onset of the Holocaust.
-
Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918—1922 гг. Сборник документов. Ответственный редактор Л.Б. Милякова. — Москва: РОССПЭН, 2007.

Симон\nВасильевич\nПетлюра

Симон\nВасильевич\nПетлюра
Симон (Семён) Васильевич Петлюра – председатель Директории Украинской народной республики (УНР) в 1919—1920 годах. Главный атаман войска и флота УНР.
Родился в 1879 году в Полтаве. Учился в Полтавской духовной семинарии, откуда был исключён. В 1900 году Петлюра вступил в Революционную украинскую партию, придерживался левонационалистических взглядов. Во время революции 1905—1907 годов возглавил один из отрядов еврейской самообороны в Полтаве, которая помогла избежать погромы в городе. В июне 1917 года Петлюра был назначен военным министром Генерального секретариата, учреждённого украинской Центральной радой. Среди его задач была украинизация армии. После отставки с этого поста Петлюра сформировал особую боевую добровольческую часть — Гайдамацкий кош Слободской Украины, целью которого было возвращение Слободской Украины (историческое название Харьковской губернии), захваченной большевиками. Гайдамаки несколько раз отбивали Киев у советских войск, Петлюра лично руководил штурмом.
Весной 1918 года властям Украинской народной республики удалось вернуться в Киев благодаря заключению военного союза с Германией и Австро-Венгрией. При этом Петлюра, по сути, присвоил себе чужую победу – его гайдамаки вошли в столицу за несколько часов до войск союзников и даже устроили по этому поводу не санкционированный властями парад. После этого случая его отстранили от командования гайдамаками. Но к концу того же года было организовано восстание против властей УНР и их западных союзников, в результате которого сформирована новая революционная власть — Директория, которую возглавил Петлюра. Директория просуществовала всего два года (до ноября 1920 года), одни из самых кровавых для евреев Украины. Петлюра установил военную диктатуру и получил звание Главного атамана.
Еще до образования Директории, в самом начале 1918 года, проявились «погромные настроения» украинской армии во время столкновений с большевиками, отмечал историк, исследователь погромов И. М. Чериковер. Так, когда украинские войска вошли в Киев 1 марта 1918 года, в городе произошёл погром, длившийся почти три недели: «В течение почти трех недель Киев становится ареной неслыханных до того насилий над еврейским населением». Для пресечения этих преступлений к Петлюре была отправлена специальная делегация Городской Думы, и он даже попытался помочь: «Считаясь с просьбой Думы и зная настроение своих солдат, С. Петлюра повёл их в город не через населенный евреями район, а другой дорогой». Но это не помогло: как только гайдамаки вступили в Киев, началась погромная агитация и пошли самовольные аресты и расстрелы. «Гайдамаки и отряды «Вольного казачества», с криками «всех жидов перережем», хватали посреди улицы мирных жителей-евреев, под предлогом ареста «жидовских комиссаров», уводили их в казармы и чаще всего расстреливали. Офицеры разъезжали по городу и нагайками избивали евреев», — пишет Чериковер. По данным комиссии при Городской Думе, только за 1-8 марта в Киеве было зарегистрировано 172 случая насилий над евреями, среди них 22 убийств, 11 истязаний, 3 изнасилования, 19 случаев угроз расстрелом, 28 арестованных.
За неделю до киевской резни Петлюра присутствовал при другом погроме – он несколько дней находился на железнодорожном вокзале рядом с местечком Бородянка, в котором гайдамаки также громили евреев, сообщал очевидец, корреспондент немецкой газеты Die Neue Zeit. «Все евреи местечка — дело было в Пурим — одели талесы и тфилины, взяли свитки Торы и со всех молелень собрались на синагогальной площади, что близ шоссе. Почтенные представители общины, падая ниц, вздымали руки вверх, другие поднимали свитки Торы и клялись. Это была страшная картина. Но ничто не помогало, пока община не догадалась откупиться деньгами от гайдамаков», — писал он. Население Бородянки искало защиты у Петлюры, но тот отправил их депутацию к своему помощнику, который ответил, что гайдамаки «раздражены», и он «ничего не может поделать».
Первые месяцы провозглашения власти Директории ознаменовались серией еще более кровавых погромов. Самый крупный из них был в Проскурове, где в феврале 1919 года за 3,5 часа было убито около 1650 евреев, включая грудных младенцев и подростков. В этом городе командир Запорожской казацкой бригады им. Петлюры, атаман Семесенко поручил своим солдатам рассматривать погром как «национальный долг», потому что евреи — «самые опасные враги» украинского народа и казаков и их необходимо полностью «вырезать» для спасения Украины. Он заставил гайдамаков поклясться перед украинским знаменем, что они устроят погром, не применяя огнестрельного оружия, не грабя «жидовского добра» и не насилуя женщин. По сути, это была чуть ли не первая попытка «окончательного решения» еврейского вопроса, за 20 лет до нацистов. Тот же отряд Семесенко устроил кровавую баню в соседнем местечке Фельштине, где было убито до 500 евреев и 120 тяжело ранено. Общее количество жертв резни в Проскурове, Фельштине и соседних деревнях (15-16 февраля 1919 года) оценивается в 2500 евреев.
Мотивировка погромов «национальным долгом» со стороны командного состава войск Директории была не редкостью. В январе 1919 года полковник Палиенко, посланный в Житомир, перед погромом, в котором погибло более 50 человек, заявил, что Украина окружена со всех сторон врагами, к которым он относил евреев и большевиков. «Большевистское движение — это дело рук жидов, что так это им (т.е. евреям) не пройдет». Палиенко утверждал, что Директория поручила ему навести порядок в Житомире. Общее число жертв второго погрома в Житомире, который произошел в марте того же года и продолжался пять дней, — 317 человек. В самый разгар этого погрома, 23 марта, Житомир посетил Петлюра, которым был осведомлен о всем происшедшем. Он заявил, что для прекращения погрома отдал все необходимые распоряжения. Но в действительности никаких мер для борьбы с погромами еще два дня не принималось, он был остановлен только 25 марта. «С великою радостью я с вами делюсь тем, что мне пришлось наблюдать во время моей поездки в Житомир. <…>. Грабительство, разбой, грубость и наглость, с которыми большевики воцарились на Украине, навлекли вдвойне в больших размерах возмущение украинского народа против них, этих новых грабителей-москалей и евреев», — говорилось в обращении Петлюры по итогам его поездки в Житомир.
Главным виновным в организации второго погрома в Житомире следственная комиссия впоследствии – уже после прихода большевиков — назвала полковника Петрова, начальника украинского гарнизона в этом городе. Но Петлюра не наказал его, а наоборот назначил своим военным министром.
Погромы устраивали не только регулярные части Директории, но и так называемые повстанческие атаманы, напрямую не подчинявшиеся украинскому руководству. Однако историками установлена «ближайшая связь» этих атаманов с Петлюрой и его штабом. Помимо Семесенко среди самых известных из них – Ангел, Волынец, Зелёный, Струк, Слепянский, Соколовский и Тютюник. Преступления этих повстанческих банд отличались невероятной жестокостью. Например, в мае 1919 года Волынец устроил погром в Гайсине, который оставил 340 жертв. Атаман Пуровский из банды Слепянскаго в марте 1920 года вырезал в Тетиеве до 3000 евреев.
Однако большинство историков сходится во мнении, что главная вина Петлюры не в организации еврейских погромов, а в том, что он отказывался их пресекать. В момент, когда непосредственно совершались погромы, он не сделал ничего, чтобы наказать своих командиров, лично виновных в резне, несмотря на явные доказательства преступлений. Петлюра стал издавать приказы против погромов уже тогда, когда под натиском советских войск он почти потерял Украину, перенесся столицу из Киева в Каменец-Подольск, и стал ориентироваться на помощь Антанты. Он предоставил евреям национальную автономию, назначил министра по делам евреев (первое подобное министерство в Европе) и даже предложил Комитету еврейских делегаций направить комиссию для расследования погромов. Правительство Петлюры выплачивало пострадавшим от погромов евреям большие денежные компенсации – на сумму 20 млн гривен. Но эти «льготы» предоставлялись одновременно с новой волной погромов из-за явной безнаказанности виновников.
По данным исследователя Нахума Гергеля, который по горячим следам собирал информацию о погромах и основывался на показаниях очевидцев и потерпевших, документах министерства еврейских дел УНР и отчетах Красного Креста, армия Петлюры за годы Гражданской войны совершила максимальное количество погромов – 40% всех зафиксированных и доказанных случаев, а отдельные независимые военные формирования – еще 25%. По его подсчетам, армия Петлюры несет ответственность за примерно 17 тысяч задокументированных смертей евреев. Но Гергель хотел избежать обвинений в преувеличении масштабов погромов и всегда использовал самые скромные оценки количества жертв, поэтому большинство ученых считают, что его выводы не соответствуют реальному уровню насилия. Так, например, Комитет еврейских делегаций оценивал общее число жертв еврейских погромов в 1919 году в 70 тысяч человек, а большая их часть, по оценкам комитета, была убита петлюровцами. «1919 год был одним из худших в длинной летописи еврейского мартиролога», — говорится в его заявлении.
25 мая 1926 года Петлюра, находясь в эмиграции в Париже, был убит анархистом, еврейском часовщиком Самуилом Шварцбард, у которого в ходе погромов погибло 15 родственников. Шварцбард напал на него с криками: «Это тебе за резню! Это за погромы!». Во время судебного процесса, который превратился в суд на Петлюрой и непосредственными участниками погромов, Шварцбарда оправдали, расценив его поступок как «выражение праведного негодования» и «законную месть». Одна из свидетелей защиты Хайя Гринберг, пережившая проскуровские погромы, в ходе процесса не говорила, что глава Директории лично в них участвовал. Но она ссылалась на слова солдат-погромщиков, которые признавались, что ими руководил Петлюра. С тех пор его официально стали называть организатором массовых убийств евреев в Украине.
Источники:
- Чериковер И. М. История погромного движения на Украине 1917-1921 гг. Т. 1. Антисемитизм и погромы на Украине 1917-1918 гг. Берлин, 1923.
- YIVO (The Edward Blank YIVO Vilna Online Collections), RG80: Mizrakh Yidisher Historisher Arkhiv RG80: Elias Tcherikower Archive, Series I: General Pogrom Materials. Folder 418.
- Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918–1922 гг.: Сборник документов. Отв. ред. Л.Б. Милякова, отв. сост.: Зюзина И.А., Милякова Л.Б. (Украина, европейская часть России), Розенблат Е.С., Еленская И.Э. (Белоруссия), при участии Середы В.Т. Москва, 2007.